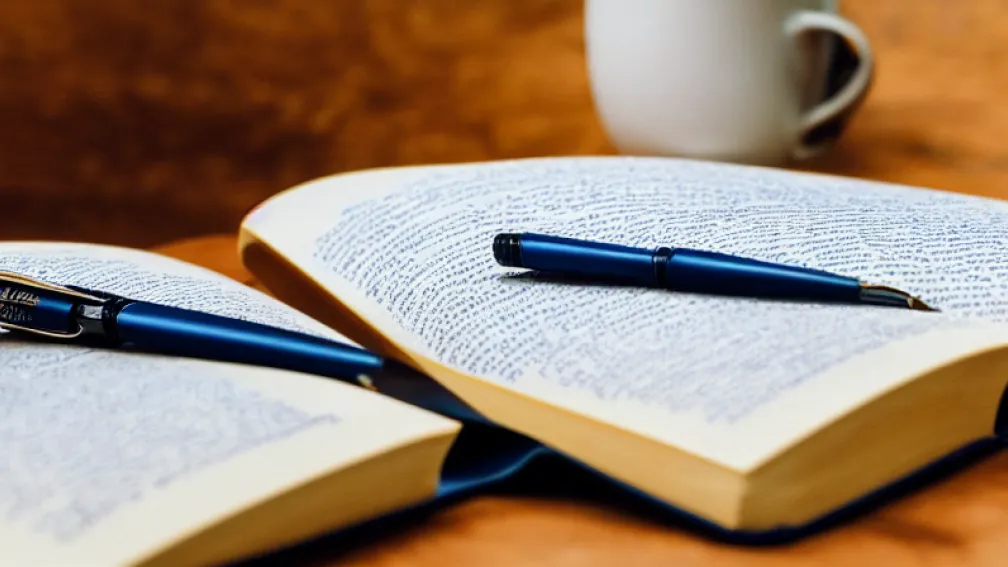
В нескольких словах
Современные испанские писатели, родившиеся в 90-е, активно используют локальные диалекты и устную речь, обогащая литературу и бросая вызов языковым нормам. Они стремятся сохранить культурное наследие и отразить разнообразие региональных особенностей.
Литература – это общее пространство, особенно испанский язык, объединяющий более 500 миллионов человек. Но это и «автострада», где помещаются любые лингвистические «пируэты» и локализмы. Авторы, родившиеся в 90-е, такие как Луис Марио (Суансес, Кантабрия, 33 года), Давид Уклес (Убеда, Хаэн, 35 лет) или Грета Гарсиа (Севилья, 33 года), пошли по стопам Андреа Абреу, 30-летней девушки из Икод-де-лос-Винос (Тенерифе), которая в 2020 году «взорвала» все шаблоны своей книгой «Panza de burro» («Брюхо ослицы»), настоящим праздником языка, которого нет в словарях и который высмеивает нормативность.
Почему все кажется одинаковым повсюду? Не устали ли мы от глобального, общего, от всего, что нас объединяет, от своего рода «литературы Zara и Starbucks», стремящейся к однородности? Возможно, в этом и кроется причина того, что эти авторы решили вернуться к устной речи своих предков и к местным диалектам, которые они впитали в своих деревнях и районах. «Сегодня мы умеем удалять приложения или монтировать видео, но не сажать картофель или рассчитывать сроки сева», – признается Давид Уклес, ворвавшийся в топ-листы литературы 2024 года с книгой «La península de las casas vacías» («Полуостров пустых домов»). «Я стараюсь, чтобы мой литературный язык был лиричным, но не перегружаю его чрезмерно, чтобы не отворачиваться от языка, который использует мое общество. Язык – это инструмент коммуникации, а не средство затруднять чтение. Диалоги в «Полуострове…» действительно отражают местные обычаи, сельскую жизнь и, в основном, андалузский говор, хотя также манчский, галисийский, каталонский, баскский… Я попытался отразить различные языки Пиренейского полуострова, чтобы создать большее ощущение «иберийского путешествия».
Инес Фернандес-Ордоньес, филолог и член Королевской испанской академии, отмечает, что доступ к образованию и моделям, распространяемым СМИ и социальными сетями, стоит за глобальной тенденцией к утрате диалектных особенностей. «Однако диалекты сохраняются. Эти особенности являются групповыми маркерами идентичности, которые выполняют функцию в своих сообществах».
Превратить местное в высокую литературу. Андреа Абреу, пережившая «ураган славы» после выхода «Panza de burro», не хочет говорить, так как погружена в написание своего следующего романа, но это делает Сабина Уррака, ее редактор, которая отрицает, что ее язык – это просто канаризм, это нечто большее. «Называть это так – значит упрощать. На каждом Канарском острове или в каждом районе зарождается свой жаргон. Язык «Panza de Burro» – это даже не язык Андреа. Это голос рассказчика, конструкция, основанная на речи ее местности», – утверждает Уррака. «Слова строятся в зависимости от жизни, и все, что ограничивает или навешивает ярлыки, мне абсолютно неинтересно».
Редактор, сама автор таких книг, как «Las niñas prodigio» («Девочки-вундеркинды») или «El celo» («Эструс»), добавляет другие имена в этот новый «ландшафт» авторов, родившихся в 90-е, способных превратить местное в высокую литературу: от Аиды Гонсалес Росси (Тенерифе, 1995) с ее «Leche condensada» («Сгущенное молоко») и «абсолютно особенным языком, смесью речи определенной местности, эпохи и очень конкретной группы девушек с поэтическим голосом Аиды и языком видеоигр, что очень важно в книге»; до Клаудии Муньис и ее «Romcom», кубинки, которая смешивает свой родной язык и «весело смешивает его с английским и мадридским», – говорит Уррака, или Андреа Геноварт (Барселона, 32 года), Альберто Кортес и уже упомянутая Грета Гарсиа.
В ее случае, Сабина Уррака, жившая в родном Сан-Себастьяне, на Канарских островах и в Мадриде, «языковые вариации всегда очаровывали меня». «Как у писателя или редактора, нет других правил, кроме тех, что устанавливает каждая книга. И все больше людей понимают это и включаются в игру».
Именно так лучшая современная литература наполнилась «estregarse, esperruñar o macaneo» (неологизмами) от Андреа Абреу; «si habría… la dije o cagonsos» от кантабрийца Луиса Марио; деревенскими суевериями и сбором нута с использованием «pimpirinetes, bambolá, metijón y «ni pa ti ni pa mí»» (местные выражения); или «metérmelo to» (сленговое выражение) от Греты Гарсиа в «Solo quería bailar» («Я просто хотела танцевать»).
Конвенции и вульгарность? Существует ли опасность вульгарности? «Вульгарность зависит от социальных конвенций, и то, что раньше было вульгарным или мало престижным, со временем может быть оценено и достичь письменности», – утверждает Фернандес-Ордоньес. «В случае этого романа [«Panza de burro»] я не думаю, что можно считать вульгарным то, что является литературным желанием отразить канарскую устную речь».
И именно это стремление к устности отличает эти романы от тех, что написаны на диалектах Латинской Америки или Испании, но не нарушают нормы. И именно намеренность является разницей между вульгарным использованием языка и литературным использованием того, что можно понимать под вульгарностью. Уклес признает, что задумал «La península de las casas vacías» именно так, чтобы спасти язык, культуру и «внутреннюю историю» сельского поколения тридцатых годов, особенно своей семьи. «Я был губкой почти пятнадцать лет и пытался запечатлеть истории, обычаи и суеверия – то есть устную традицию, – чтобы потом воплотить их в жизнь».
Сабина Уррака считает, что литература в Испании была «абсурдно нормативной до недавнего времени». И что результатом является «однородный язык и потеря языкового богатства, которое в Латинской Америке понимали и использовали естественным образом с самого начала. В целом, в литературной свободе Латинская Америка «дает нам миллион очков вперед». Корректность, уверяет она, «ничего не дает, в то время как писатели Латинской Америки совершают захватывающие «акробатические трюки».
Луис Марио считает, что любому языку нужны правила, чтобы понимать друг друга. «Но речь идет о том, чтобы играть с ними, пока можешь общаться. Если ты меняешь правила, но тебя понимают, общение остается таким же эффективным или даже более эффективным, чем технический текст». И он выступает за сохранение знания своих корней. «Не для того, чтобы использовать их в политических целях, а для того, чтобы сообщать о прекрасном. Если в чем-то традиционном есть проблеск красоты, необходимо поддерживать эти «ниши», сохранять их, пока это является общим благом, достойным спасения».
Сабина Уррака хочет думать, что умы открываются и начинают интересоваться тем, как говорят другие люди, помимо преобладания английского языка. «Иногда мне кажется, что да, это возможно. Но одно дело – издательская мода, а другое – то, как среднестатистический человек относится к акцентам и идиолектам окружающих его людей. Печальная реальность заключается в том, что мы «пропитаны» английским языком, но нас мало интересует, как говорят наши боливийские соседи, например».
В полном бегстве от глобального, заключает Уклес, «кажется, что гиперсвязь, которую нам предлагают социальные сети, порождает пустоту, и это так парадоксально! Как сказал Бауман: мы – индивидуумы, постоянно подключенные, но ужасно одинокие. Окруженные шумом и потоками мгновенных стимулов, возможно, мы лучше ценим спокойствие местного и близкого, деревни и села». Книги этих авторов как раз и прилагают эти усилия.
