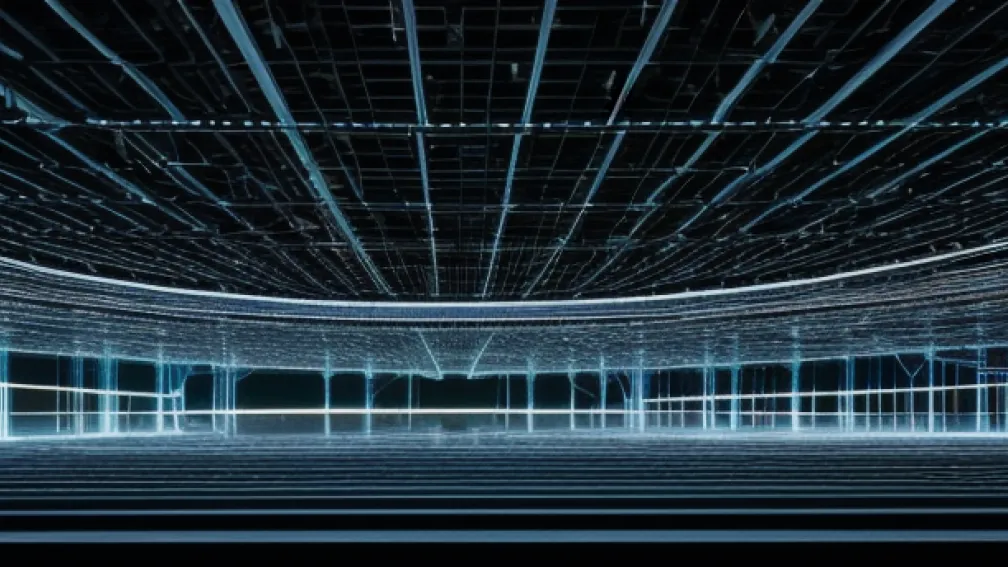
В нескольких словах
В своей книге «Рабство протоколов» Ингрид Гуардиола критически анализирует влияние автоматизации и цифровизации на современное общество. Она исследует, как алгоритмы и протоколы, управляющие нашей жизнью в онлайн-среде, влияют на социальные отношения, личную свободу и даже идентичность. Автор призывает к переосмыслению социального контракта в эпоху цифровых технологий и поиску способов защиты граждан от избыточного контроля в онлайн-мире.
Бывают капризы алгоритмические, а бывают и обычные, житейские.
Беседа с Ингрид Гуардиолой о её последнем эссе относится ко вторым. Её книга «Глаз и нож», опубликованная в 2018 году, была поучительной и острой. Новое произведение «Рабство протоколов» (издательство Arcàdia) – это критический анализ процессов автоматизации, связанных с технологическими устройствами. Чтение застало меня в разгар любительских поисков информации о «глупых телефонах». Это мобильные телефоны, появившиеся относительно недавно, которые выполняют только функции, предшествующие функциям смартфонов. Моя проблема носит практический характер. Смартфоны, помимо своих бесчисленных достоинств, прививают зависимость от бесконечной прокрутки. В своем новом и превосходном эссе Гуардиола связывает бесконечную прокрутку с той вещью, которая ничего не представляет, но производит, той вещью, которая ничего не означает, но работает. Это «нечто», о котором говорили Гваттари и Делёз. Время, которое я трачу на это «нечто», я мог бы использовать лучше, если бы у меня был «глупый телефон». Вот он, житейский каприз: книга, которая волшебным образом попадает в твои руки не тогда, когда ты больше всего её хочешь, а когда больше всего в ней нуждаешься.
Но я предаюсь фантазиям, говорю я себе. «Глупый телефон» превращает тебя в социально неадаптированного человека (и не в революционном смысле этого слова), потому что остальной мир, с которым ты общаешься, использует смартфоны. Я спрашиваю Ингрид Гуардиолу, неизбежны ли смартфон и его вселенная алгоритмов и протоколов. «Я действительно считаю, что это неизбежно, и что осознание этого может помочь нам лучше понять инструменты и пересмотреть социальный контракт», – отвечает она. «Рабство протоколов» заканчивается призывом к восстановлению идеи социального контракта, актуальность которого была подорвана навязыванием цифровых технологий для выполнения как банальных, так и решающих задач. «Например, вы – профессор университета и должны выставлять оценки. Чтобы открыть ведомости, вам нужна двойная проверка через ваш мобильный телефон, предварительно скачав приложение от Google или Microsoft. Без этого вы не можете аттестовать своих учеников. Никто с вами это не согласовывал, это принимается как должное». Таким образом, долгожданная единая цифровая идентификация уже близка к реальности. «Объединение всех аспектов нашей жизни в подключенные, а теперь и «умные» цифровые технологии имеет психосоматические и психосоциальные последствия, поскольку смешивает частную, общественную, трудовую и досуговую сферы в одном и том же пространстве, и мы не знаем, как управлять этими различными областями. Я думаю, что могли бы быть инструменты, которые помогли бы нам научиться их различать».
Концепция, связывающая всю книгу Гуардиолы воедино, – это концепция протокола. Это широкое понятие, но всегда связанное с социальными и политическими отношениями. Жорди Пужоль, например, говорил, что протоколы – это пластика политики. Читая Гуардиолу, я вспоминаю, что в офлайн-мире протоколы амбивалентны. Иногда это механизмы социального контроля над гражданами, потому что они навязывают нам определенные способы доступа к определенным социальным благам. Но в то же время они также служат механизмами защиты граждан от избыточного социального контроля. Полицейский, чтобы вытащить оружие, должен соблюдать ряд протоколов. Но эта амбивалентность, похоже, исчезает в онлайн-мире. Практически нет цифровых протоколов, которые служили бы для защиты граждан от избыточного социального контроля, который уже является пост-гоббсовским, в том смысле, что власть в нашей онлайн-жизни находится в руках частных организаций. Гуардиола, обеспокоенная влиянием технологических и социальных процессов автоматизации, так же очарована протоколами, как философы права очарованы нормами. «Протоколы – это не что иное, как набор правил, и они тесно связаны с контекстом, который их породил. Исторически протоколы больше связаны с церемониями и определенными социальными ритуалами, а сегодня они стали технологичными. И это привело к тому, что они утратили свою способность к социальному объединению. Протокол давал указания для придания смысла конкретному населению в определенный момент времени. Эти церемонии исчезают, трансформируются и, когда они переходят в это техническое измерение, очень трудно отделить социальные использования, которые позволяют превратить этот протокол в ритуал, и, следовательно, в коллективный опыт, от его роли в качестве инструментов или устройств контроля. Протоколы выполняют ту же функцию, что и радар: они улавливали положение и скорость сигнала в пространстве и регистрировали движения; теперь они регистрируют цифровые данные». Что могут сделать инструменты, которые традиционно защищали граждан, такие как право, от этих виртуальных радаров? Гуардиола проявляет себя как умеренный реалист: «Что касается правовой базы, то у нас всегда возникает ощущение, что мы ловим рыбу голыми руками. Но есть два очень разных контекста: англосаксонский мир и европейский мир. Последний, с GDPR (Общий регламент по защите данных) 2018 года, больше защищает конфиденциальность данных человека. Существует правовая база, которая не отвечает всем юридическим потребностям момента, потому что будут новые инструменты, новые виды использования, новые воздействия, которые, безусловно, оставят нас временно незащищенными от проблемы, с которой мы сталкиваемся».
В «Рабстве протоколов» Гуардиола делает довольно критический вывод. «Интересная особенность организованной алгоритмами беседы, – подчеркивает она в нашем диалоге, – заключается в том, что социальные платформы заставляют вас верить, что ваше мнение важно. Это очень маркетинговая идея. Хотя, конечно, в старых опросах по оценке продукта, проводившихся на улице, вас просили заполнить опрос, но не заставляли верить, что вы чего-то стоите, что вы очень важны и что благодаря вам компания будет намного лучше. Это был гораздо более банальный и прагматичный вопрос. Теперь исследование не разглашается: оно называется «социальные платформы». И они заставляют вас верить, что это место расширения прав и возможностей, где вы можете сформулировать себя как субъект».
Я тяну нить субъективности и говорю Гуардиоле, что социальные платформы направили робкий переход от культуры вины к культуре стыда. Все те, кто когда-либо участвовал в социальных сетях, чувствовали давление, заставляющее нас соглашаться с каким-то мнением, несмотря на то, что у нас были серьезные сомнения в том, чтобы подписаться на него из-за страха быть пристыженным. До появления социальных сетей мы привыкли регулировать свое поведение и свои мнения в соответствии с культурой вины (будь то в христианском или в светском смысле). И вдруг мы оказываемся подвержены воздействию инструмента – социальных платформ – который делает вину более неактуальной, потому что механизмы регулирования мнений и поведения больше не зависят столько от индивидуальной интроспекции, сколько от ряда вводных данных, которые даются мнениями других. Гуардиола не совсем убеждена в моей торопливой реконструкции недавней истории эмоций, регулирующих наше поведение: «Мы не преодолели вину в том смысле, что живем в обществе достижений и производства, что подразумевает постоянное преодоление самих себя, постоянную конкуренцию, участие в диффузном наказании социальных сетей, и это ставит нас в контекст конкурентоспособности, показателей и целей, в прогресс силы машины, что заставляет нас чувствовать себя виноватыми, если мы не достигаем этих целей. Это не метафизическая вина, не психоаналитическая, хотя и есть психосоматическая работа. Но это, без сомнения, вина».
Владельцы крупных технологических компаний из Кремниевой долины настаивают на том, что искусственный интеллект спасет нас от изменения климата, позволит нам заниматься досугом, потому что освободит нас от работы, или решит большую часть болезней. «Технофетишизм продается», – заключает Гуардиола с некоторой покорностью. Я вставляю свои пять копеек: исторически, однако, все время, которое мы выиграли для досуга и отдыха, например, было результатом борьбы за трудовые права. Развитие технологий является условием для большего досуга, но не его причиной. В дискурсе этих деятелей Кремниевой долины заложена своего рода всемогущество, потому что они считают, что развитие технологий станет причиной всех этих улучшений в нашей жизни, а не условием их возможности. Все проблемы – технические, в Кремниевой долине, предполагаю я. Но в глубине души они сами в это не верят, как справедливо отмечает Гуардиола в проблеске неоспоримой ясности: «Если Маск верит, что технология обладает этим всемогуществом, зачем ему сотрудничать с Дональдом Трампом?».




