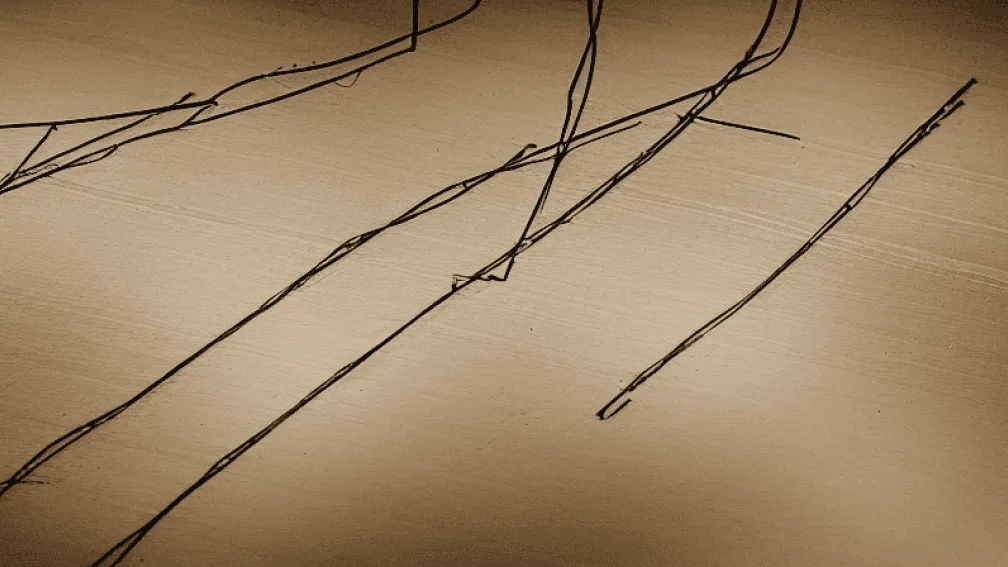
В нескольких словах
Автор отстаивает идею, что свобода слова писателя, особенно при работе с реальными трагическими историями, должна уравновешиваться этической ответственностью перед людьми, чьи судьбы затрагиваются, и уважением к их страданиям. Абсолютная художественная свобода не должна отменять моральный долг.
Во всей словесной буре вокруг книги Луисхе Мартина «Ненависть» отсутствовало одно слово — сдержанное слово «ответственность». Мы видели безоговорочных защитников свободы слова, а также тех, кто отстаивал право на честь живых и мертвых жертв двойного убийства, чью жестокость, возможно, не выразить словами, так же как нет слов, чтобы описать боль матери убитых детей, и, вероятно, нет способности постичь ее глубину. И поучительно было наблюдать во всем этом то, что на современном жаргоне называется гендерным уклоном: в основном мужчины стройными рядами выступали на стороне свободы слова, а женщины указывали на мучения, которые публикация книги — а вместе с ней возвращение в медиапространство имени, лица и голоса хладнокровного убийцы — причинит матери детей, и, без сомнения, также бабушкам, дедушкам и близким родственникам.
Существуют определенные аргументы и заголовки, настолько избитые употреблением, что становится немного неловко видеть, как их формулируют с убежденностью человека, только что озаренного гениальной идеей. Точно так же, как при обсуждении контраста между литературным качеством писателя и его человеческой низостью обязательно выносят на процессию уже потрепанную мумию Луи-Фердинанда Селина, в нашей дискуссии мужские голоса прибегали к двойному примеру Трумена Капоте и Эмманюэля Каррера, авторов двух, по-видимому, неоспоримых произведений в жанре повествования о реальных преступлениях, который теперь также принято называть true crime, чтобы показать, что использующий этот термин в курсе самых актуальных культурных дебатов. Я читал книгу Эмманюэля Каррера дважды, с интервалом в несколько лет: в первый раз она, как и многих, ослепила меня необычностью истории и манерой повествования; во второй раз я читал «Соперника», потому что сам рекомендовал его студентам, и, к моему удивлению, ожидаемого эффекта не последовало. К некоторым книгам опасно возвращаться. История того печального самозванца, который стал убийцей собственной семьи, когда его собирались разоблачить, оставалась столь же мощной, но фигура, на которую я почти не обратил внимания в прошлый раз, стала для меня невыносимой — это был сам Каррер, упорно ставивший себя в центр своей книги, жестикулируя, чтобы сделать свое авторство более очевидным. Возможно, с годами я становлюсь менее терпимым к показухе литературного эгоцентризма, к раздуваниям и гипертрофиям фигуры художника. Я и сам, наверное, не раз в молодости поддавался тому, что можно было бы назвать лестной эпопеей писателя как персонажа самого себя, как члена гильдии, одновременно жуликоватой и героической. Перечитывая Каррера, меня раздражало, что он придавал себе в книге такое же значение, как и тем людям, о которых писал, и которые страдали несравненно больше него.
Трумен Капоте лучше Каррера, и «Хладнокровное убийство» — одна из тех книг, к которым я возвращаюсь на протяжении многих лет. Но я также не думаю, что эта книга в наши дни полностью годится в качестве неоспоримого примера не только высокого литературного качества, но и права писателя нон-фикшн переступать через любые угрызения совести в стремлении создать шедевр. У нас есть право писать свободно, но более спорно, имеем ли мы также право манипулировать в своих интересах людьми, гораздо более уязвимыми и пострадавшими, чем мы, без их разрешения, и жадно эксплуатировать их несчастье для достижения успеха и заработка — огромного успеха и денег, в случае Трумена Капоте. Давно известно, какие недостойные уловки, даже сексуальные, он использовал, чтобы завоевать доверие двух безмозглых убийц семьи Клаттеров. И он сам устно и письменно свидетельствовал о растущем нетерпении, с которым ждал исполнения смертного приговора и боялся помилования, когда книга была почти готова к изданию, предвкушая верный и бесплатный рекламный эффект, который принесет ей кровавая развязка истории. Оборотной стороной той двойной и грязной казни на виселице, в каком-то ледяном ангаре на рассвете, была многолюдная вечеринка, которую Капоте устроил в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать сотни тысяч экземпляров, проданных с момента выхода книги.
Персонаж, которого мы придумываем, — наш; если мы пишем о реальных людях, мы приобретаем ответственность, от которой в случае художественной литературы мы освобождены. Это та же ответственность, которую берет на себя журналист: его свобода выражения ограничена уважением к фактам и правдивостью слов, которые он вкладывает в уста интервьюируемого, — все это сводится к уважению, которого заслуживает каждый человек, особенно самый уязвимый, тот, кто не может себя защитить. Клаттеры были неясной семьей фермеров из Канзаса, а их два убийцы — несчастными, отмеченными злым роком с самого рождения. Когда Трумен Капоте использовал свою свободу слова, чтобы скандально высмеять дам нью-йоркского высшего общества, которые до этого его превозносили, ценой, которую он заплатил, стала социальная смерть и разорение. Здесь, как и во всем, есть классовый вопрос: всегда безопаснее упражняться в остроумии на тех, кто не может защититься.
Для Симоны Вейль права человека остаются чистой абстракцией, если они не сопровождаются тем, что она называет обязанностями по отношению к людям, которые заключаются в уважении, солидарной помощи и сострадании, в признании полной человечности других. Это обязанности по отношению ко всем, которые касаются всех нас. Мне не кажется, что художник освобожден от них. Со времен авангарда, довольно обветшавшего к настоящему времени, спустя более века, абсолютная свобода, личная и эстетическая, была догмой, породившей немало монстров. Андре Бретон постановил, что выйти на улицу с пистолетом и убить кого-нибудь наугад — это совершенный сюрреалистический акт. Он и его последователи приводили в качестве примера максимальной трансгрессивной свободы произведения Маркиза де Сада, в которых сексуальное насилие сильных над низшими, женщинами и детьми, достигает ужасающей монотонности промышленного механизма. Один из двух-трех по-настоящему талантливых сюрреалистов, Луис Бунюэль, восхвалял Сада и защищал «безумную любовь» (amour fou), но своей жене никогда не позволял работать вне дома и даже играть на пианино.
Я не осуждаю ничье произведение по моральным соображениям, но отказываюсь оправдывать злоупотребления или жестокости в силу его художественной ценности. Я также считаю, что в жизни есть вещи поважнее литературы и искусства. Я защищаю свою свободу слова с таким же пылом, как и любой другой, но есть вещи, которые я перестал писать или публиковать, чтобы не ранить людей, которые пострадали бы несправедливо. И я сожалею, что когда-то поддался искушению сатиры, которая в тот момент казалась мне остроумной, а была лишь жестокой. Пишешь о ком-то реальном и так погружаешься в свое одинокое творчество, что в конце концов забываешь: это не вымышленное существо, и поэтому оно тебе не принадлежит. Я никогда не буду защищать запрет или изъятие какой-либо книги, ни отказывать кому-либо в праве писать то, что ему вздумается. Несомненно, утешительно заявлять, что свобода слова в опасности, когда сам ею в полной мере пользуешься, но, возможно, необходима определенная степень ответственности, когда пишешь, давая голос убийце, зная, что это неминуемо возродит величайшую из существующих болей.




