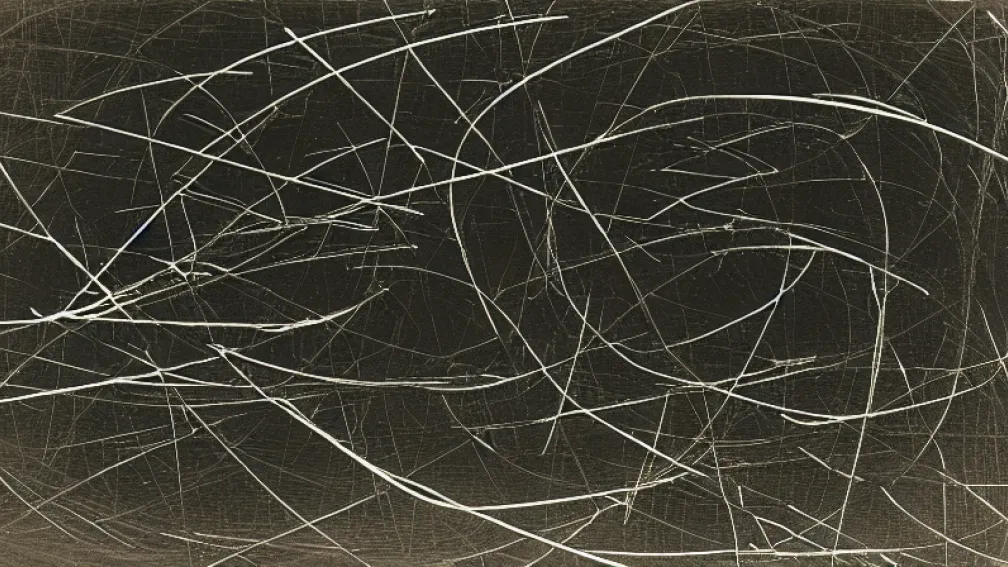
В нескольких словах
Психоаналитик Лола Лопес Мондехар утверждает, что современное общество переживает кризис личного повествования из-за цифровизации, ускорения жизни и прекаризации труда. Это ослабляет нашу способность понимать себя, делает нас уязвимыми для популизма и упрощенных идей. Она подчеркивает важность рефлексии, диалога, чтения художественной литературы и таких пространств, как читательские клубы, для восстановления способности к самопониманию, развитию эмпатии и критического мышления.
Нам все труднее рассказывать о себе, объясняет психоаналитик Лола Лопес Мондехар (Молина-де-Сегура, Мурсия, 1958). Мобильные телефоны, социальные сети, нестабильная занятость и, в целом, цифровой капитализм мешают нам создать повествование, которое помогло бы нам понять себя, узнать, кто мы, чего хотим и что можем сделать. Это делает нас легкой добычей для упрощенных предложений популистов, ищущих козлов отпущения, таких как иммигранты, чтобы обвинить их в наших бедах.
Об этом она пишет в своей книге «Без повествования. Атрофия нарративной способности и кризис субъективности», удостоенной премии Anagrama de Ensayo 2024 года. И рассказывает нам об этом в Каса Веласкес в Мадриде. Ранее она написала «Неуязвимые и бесхребетные», где говорит о нашем психическом здоровье, которому угрожают тревога и депрессия. Лопес Мондехар также является автором романов и рассказов, поэтому неудивительно, что она утверждает: художественная литература — один из инструментов, наиболее способствующих эмпатии и диалогу.
Вопрос: В чем заключается это личное повествование, которое находится под угрозой?
Ответ:
Я прочитала фразу Флобера, к сожалению, уже после завершения книги, которая кажется мне отличной метафорой того, что я хочу сказать. В письме к Луизе Коле он пишет: «Вы говорите о жемчужинах, но жемчужины не составляют ожерелье, его составляет нить». Вот это и было бы повествование. То, что мы рассказываем сегодня, — это фрагменты, впечатления, факты. Но не хватает той связующей нити, которая была бы субъектом рассказа и которая изнутри повествовала бы о событиях своей жизни. У нее есть способность определять то, что наиболее важно для создания воспоминаний, из которых можно составить нарратив и память, формирующие идентичность и субъективность.
В: Это повествование включает наши предрассудки.
О:
Оно не может быть идеальным, это не его цель. В этом повествовании есть «я», которое интерпретирует реальность в соответствии с постоянно формирующимся внутренним миром. Сегодня мы обнаруживаем, что оно атрофировано, его очень трудно найти. У многих людей повествование фрагментарно, с очень слабой связностью.
В: И почему это происходит сейчас?
О:
У меня нет окончательного объяснения, потому что меня саму это удивляет. Но влияет преобладание образа, которое сильно атрофировало символическую способность представлять мир с помощью языка. Я всегда привожу пример большого путешествия, на которое мы потратили время и силы. Часто происходит так, что мы не субъективируем этот значимый опыт. Мы не превращаем его в рассказ, а только показываем фотографии.
В: Но это технологическая проблема?
О:
Нет, универсализация сетей и экранов подтолкнула процесс, который начался давно. Это связано с ускорением жизни, которое не позволяет нам останавливаться на фактах, отмечать их и превращать в события. Также нет культуры, способствующей интроспекции. У нас нет времени остановиться и столкнуться со сложностью мира. И поскольку мы чувствуем себя некомфортно с неопределенностью, мы хватаемся за простые мысли, и именно здесь у популизма огромное поле для роста.
В: Вы пишете, что Дональд Трамп — парадигма стультофилии.
О:
От идеала Просвещения, от кантовского «дерзай мыслить», мы перешли к стультофилии — восхвалению невежества. Мы видим это у сторонников плоской Земли или отрицателей изменения климата, которые не верят в очевидное, что даже не нужно обсуждать. Это говорит нам о дискредитации авторитета и экспертов.
В: Но последователи Трампа видят в нем того, кто противостоит системе.
О:
Да, это потрясающий нарциссизм. Кристиан Сальмон написал эссе под названием «Тирания шутов», в котором описывает этих людей, обещающих очень простые ответы. Они упрощают сложность и демонизируют группы, как когда Трамп сказал, что иммигранты едят собак. Они создают врагов и верят, что проблемы решаются легко.
В: Нам легко идентифицировать себя со стороной или лидером?
О:
Если что-то и определяло XXI век, так это огромная неопределенность и падение великих ориентиров. А с неопределенностью растет тревога, и чтобы избавиться от этой тревоги, у нас есть стремление к идентичности. Это очень хорошо видно, например, в кризисе маскулинности. Сети дают молодым людям идентичность, ориентир. То же самое происходит со многими транс-юношами, которые обретают идентичность через беспокойство о своем гендере и закрывают ее извне, с помощью внешнего диагноза. Это успокаивает, это паллиатив, но это также закрывает вопрос о том, кто мы есть. Кризисы в подростковом возрасте были всегда, но у молодых людей было время их разрешить, пока они не находили взрослого, которым хотели или могли стать. Теперь эта тревога сильнее, больше спешки в обретении идентичности, которая в конечном итоге закрывает, а не открывает вопрос о том, кто мы.
В: Как могут помочь родители?
О:
На презентациях книги многие родители рассказывают мне, что очень обеспокоены злоупотреблением экранами. И они сами признают, что зависимы. На днях одна мама сказала мне: «Смотрите, я сама разговариваю с сыном, а хочу посмотреть WhatsApp». Нужно уделять молодым людям заслуженное внимание, потому что у них огромная потребность в признании. Это знают крупные технологические компании, которые эксплуатируют человеческие слабости и предоставляют фиктивное признание. Родители должны отложить экраны и предложить альтернативы для развлечений и культуры: кататься на велосипеде, сходить на футбольный матч, пойти на рыбалку… Что угодно. И разговаривать. Совместный ужин без мобильных телефонов и с беседой предотвращает многие психологические проблемы.
В: Нестабильная занятость также затрудняет это повествование.
О:
Нам нужно свободное время и энергия, чтобы думать, размышлять, а это невозможно, если мы постоянно думаем о том, как выжить на нестабильной работе. Произошла прогрессирующая виртуализация жизни, но мы не виртуальные тела, у нас есть материальные потребности: дом, пространство для жизни, связи с сообществом. Это очень политический вопрос, потому что речь идет о возвращении к контакту, к соседству, к социализации жалоб. Неолиберализм, и в психическом здоровье мы это часто видим, индивидуализировал жалобу: если у тебя нет работы, ты думаешь, что ты неудачник, что это твоя проблема. Но социализация жалобы помогает увидеть, что то, что происходит с тобой, происходит не только с тобой, но и, например, со всеми молодыми людьми, которые не могут позволить себе жилье.
В: Художественная литература помогает?
О:
Абсолютно. Литература, как говорит Марта Нуссбаум, — это упражнение в эмпатии, потому что она ставит нас в ситуации, отличные от нашей, и позволяет идентифицироваться с персонажами. И в этом диалоге с внутренним миром персонажа мы ведем диалог о нашем собственном внутреннем мире и создаем его. Писательские мастерские и читательские клубы — это революционные пространства: они создают критическое мышление, создают анализ. Не только потому, что мы читаем, но и потому, что мы говорим о прочитанном и облекаем впечатления в слова. Сколько раз мы выходим из кино и говорим только «хорошо» или «мне не понравилось»? И разговор не продолжается? Почему мы не продолжаем говорить?
Автор текста: Антон Руденко — Экономический обозреватель, пишет о финансах, инвестициях, заработке и бизнесе. Дает практичные советы.

