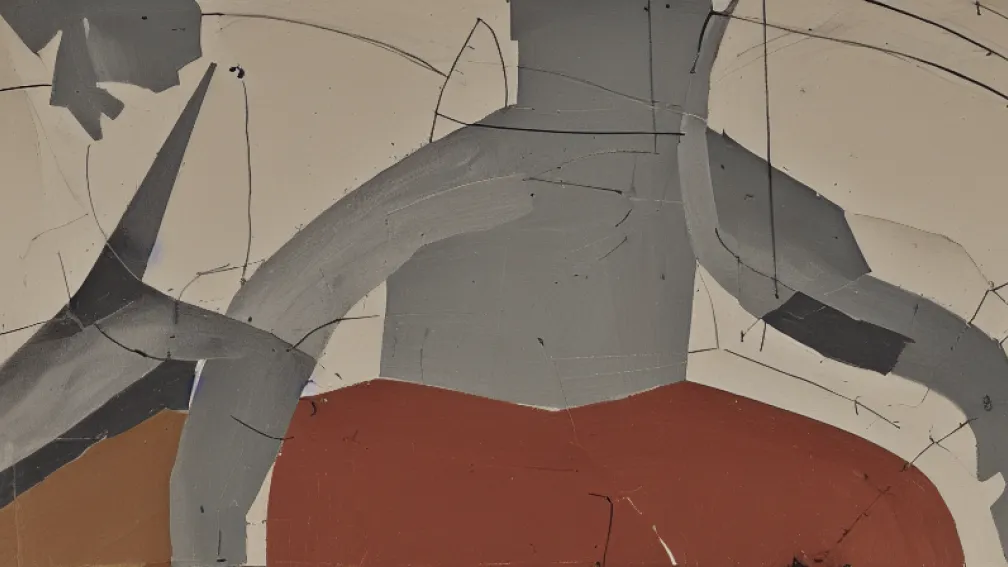
В нескольких словах
Статья рассматривает современные тенденции в литературе и кино, где мужчины пытаются переосмыслить свою роль в обществе, выражая уязвимость и пересматривая отношения с другими мужчинами и женщинами. Анализируются произведения, затрагивающие темы кризиса маскулинности и гендерных стереотипов.
Существуют произведения, которые невозможно представить даже за несколько месяцев до их публикации.
И, безусловно, ничто так не оправдывает издательскую новизну, как пристальное изучение реальности, чтобы найти в ней детали, которые раньше не существовали. Это ощущение пронизывает «Teoria del joc», последнюю работу Ариа Пако, получившую премию Llibres Anagrama de Novel·la. «Девушки разделяли бремя решений, желаний, вины, границ (…) и торговали порогом желания и игры, которые могли себе позволить, но роман о мужской любви был тайным романом, и он ни с кем его не обсуждал, потому что кто был тем собеседником, которому можно сказать: возможно, это худшее во мне, возможно, это лучшее во мне?», — пишет автор. Его книга находится на границе одержимости, которая до сих пор почти всегда была предметом писательниц: размышления о желании, от Маргерит Дюрас до Крис Краус и Эльфриды Елинек. Кроме того, книга достигает этого посредством философского бытописания, отражающего нынешнюю карнавализацию гендеров: сценарий, в котором они принимают черты, исторически связанные с женским — уязвимость, эмпатия, нежность… — и наоборот. И даже если по существу ничего не изменилось, они чувствуют себя более услышанными, а мы испытываем больше страхов, чем когда-либо.
На крыше своего отеля в Барселоне писатель Фидель Морено описывает словами это изменение культурной температуры.
«В течение долгого времени существовал огромный недостаток женских голосов, за которым последовало появление незаменимых авторов. Индустрия предоставила много историй об уполномоченных или пострадавших женщинах, но мне не хватало чтения о том, как мы, мужчины, рассказываем о себе посреди всего этого», — объясняет он. Морено — автор романа «Лучше, чем мертвый» (Random House), который вращается вокруг кризиса маскулинности и показывает, что мало что вызывает такой стресс, как само мужское состояние. Его книга также является примером, объясняющим дрожь, охватившую сегодняшнюю культуру, в которой многие мужчины-творцы пытаются пересказать себя, теперь под влиянием других женщин. Помимо Морено и Пако, есть такие писатели, как Энрик Пардо, Хосе Энрике Бортолучи или Джонатан Аррибас, и режиссеры, такие как Даг Йохан Хаугеруд, Эшли Уэй или Лука Гуаданьино. Вокруг всех них возникает вопрос: о чем говорят мужчины, когда их никто не судит?
Если бы можно было схватить великих мастеров нордического театра — Ибсена, Стриндберга и Бергмана — и бросить их, немного как человечка из Google Maps, в общество мужчин, лишенных ориентиров, то, что они бы написали, было бы чем-то похожим на «Секс», фильм лауреата «Золотого медведя» 2025 года.
«Секс» режиссера Дага Йохана Хаугеруда рассказывает историю гетеросексуального мужчины, который занимается чисткой дымоходов и однажды случайно занимается сексом с клиентом. Его признание, конечно, поднимает цунами. Может ли его брак пережить такую новость? Что это за прелюбодеяние? Действительно ли желание гетеросексуальных мужчин работает так, как мы думали? Мужчины — не то, что мужчины рассказывают о себе. Такова одна из мантр, пронизывающих все это новое творчество, культивируемое на пепле мужской психики.
Не выходя за рамки треугольника кино-мужчины-секс, в «Крепких мужчинах» Эшли Уэй затрагивает рождение виагры.
Ее фильм — это спираль вокруг следующего вопроса: импотенция мужчины вызвана тем, что он в депрессии, или он в депрессии из-за импотенции? Как и в большей части эпизодов сериала «Альфа-самцы» (Netflix), постановка группы гетеросексуальных друзей, произносящих то, что всегда было табу — импотенция, нестабильность, уязвимость… — является новинкой. И это даже с учетом того, что часть истории современного романа, но и кино, — это не что иное, как история двойной морали: то, чем мы должны быть, по сравнению с тем, чем мы не можем перестать быть.
Кстати, читаем в последнем романе Кико Амата «Дик, или грусть секса»: «Никто не говорил тебе, что делать, когда тебя никто не желает и никогда не пожелает».
Неважно, искрится ли его книга, опубликованная в начале года, под названием «грязный реализм»: ее чтение не оставляет привкуса окурков или осадка солода. Скорее, это похоже на то, чтобы откусить кусок клубничного торта на детском дне рождения, на который никто не пришел. Там только сладость персонажа сравнится с грустью его обстоятельств. Роман, в котором главную роль играет Фрэнки Пратс, — это путешествие на карусели ума гипереротизированного подростка. Его тема? Нежелание. Или, что то же самое: отказ; невидимость перед любимым субъектом. Если бы в книжных магазинах были полки для работ авторов, находящихся под влиянием сапфической традиции, «Дик» располагался бы на противоположном конце. Но не только это. Сравнивая эту книгу с другими великими произведениями литературного приапизма (вспомните «Жалобы Портного» Филипа Рота), разница существенна: если личность Портного становилась великой с его воспалением, то личность Пратса уменьшается. И вот еще одно из главных отличий этой новой мужской литературы: мужчина начинает видеть себя размером с горчичное зерно.
В кафе в барселонском районе Сант-Андреу писатель и сценарист Энрик Пардо рассказывает, что первые наброски его последней работы были написаны на кастильском языке.
«Пока я не увидел, что это не имеет смысла: моя мать говорила со мной на валенсийском, и именно так должна звучать книга», — говорит он. Результат — «L’home de la casa» (La Magrana), история, стиль которой черпает вдохновение в литературе Вивиан Горник и которая рассказывает с точки зрения ребенка семейную историю, характеризующуюся отсутствием отца. «В моем доме жили мой отец, моя мать и моя сестра Мария, но их больше нет», — пишет он в книге. «L’home de la casa» проблематизирует, возможно, самую мужскую тему в истории литературы: отношения мужчины со своим отцом и все напряжения, молчание и недоразумения, которые окружают их разговор.
Почти как поправка к Фрейду, чьи работы снова и снова ведут к отношениям с матерью как к тревожному элементу собственной психической жизни, несколько издательских новинок совпадают в том, что отношения с отцом — это вопрос, который заслуживает пересмотра.
Помимо работы Пардо, есть такие романы, как «Кашель» Альберто Отто (Caballo de Troya); и нехудожественные произведения, такие как «Мой немецкий отец» Рикардо Дудды (Libros del Asteroide) или «То, что мое» Хосе Энрике Бортолучи (Random House). Вдохновленный двумя лауреатами Нобелевской премии, Светланой Алексиевич и Анни Эрно, бразилец Бортолучи воскрешает память о своем отце, водителе грузовика на протяжении полувека, чтобы заявить об уникальной сыновней любви, но также и раскрыть поколенческие различия, которые в отношении жизни, но также и работы, временами кажутся непреодолимыми. «Мой отец, — пишет он в «То, что мое», — рассказывает о своей жизни как о жизни труда. (…) Именно работа формирует время, определяет различные этапы и определяет его место в мире».
Три столпа, с которыми ассоциируется женское письмо: «Поиск себя, повествование истории в интимной и близкой форме и написание литературы, посвященной и солидарной с другими женщинами».
Так вспоминала в своей книге «Литература и психоанализ» писательница Лола Лопес Мондехар, и так мы читаем в большинстве упомянутых работ. Из той же школы «я», интимности и солидарности между равными черпает вдохновение один из дебютов года: «Валлесордо» (Libros del Asteroide) Джонатана Аррибаса. Как и в романе Пардо, «Валлесордо» использует точку зрения ребенка, Нико, который составляет свое повествование на основе задания учителя языка. «Он сказал нам, что мы должны написать сочинение о нашем самом важном лете». В контексте города Замора слышны отголоски всей традиции писательниц, которые затрагивали тему памяти, и здесь также женщины в семье занимают особое место. Несмотря на то, что это рассказ о самом важном лете в жизни Нико, не все блестит.
Опровергать идею мужественности с собственно мужской точки зрения немного похоже на попытку поймать тень.
Создается впечатление, что она всегда ускользает, что это оптическая иллюзия, что это невозможно. И в то время как часть мужской культуры пытается переосмыслить себя, индустрия контента в сетях бежит в противоположном направлении, и делает это, если возможно, еще быстрее: известно, что существует алгоритм для мужчин и алгоритм для женщин, причина и следствие которого основаны на перегреве общих мест, связанных с каждым полом. В этом смысле существует общее пространство между контентом, который бросают нам алгоритмы, и всей культурной волной этой мужественности в пепле: одержимость мужчин работой или, по крайней мере, обеспечением своей роли поставщика в жестоком капитализме. Вопрос, кстати, трактуемый с особым мастерством несколькими режиссерами.
В своем последнем аудиовизуальном эссе «For Here Am I sitting in a Tin Can Far Above the World» (2024) Гала Эрнандес Лопес фокусируется на психологии криптовалют.
Продолжая свои исследования маскулинности, которые она начала в своем первом фильме «Механика жидкостей», фильм изобилует философией денег, основанной на состоянии перманентной войны — все или ничего; выиграть или проиграть — и которая неизбежно поднимает тревогу на беспрецедентные вершины. Как бы то ни было, эта связь между психическим здоровьем и деньгами не является уникальной для финансового мира. В «Анатомии падения» Жюстин Трие отправной точкой является смерть человека, страдающего депрессией, связанной с его профессиональным упадком, и которого, в свою очередь, превзошла его жена. С точки зрения комедии одна из подсюжетных линий «Альфа-самцов» следует за кризисом персонажа Педро Агилара (Фернандо Хиль), уволенного с должности директора телеканала и замененного женщиной. Действие совпадает с начинающимся успехом в качестве влиятельного лица его партнерши Даниэлы Гальван (Мария Эрвас).
С восхитительной ясностью Лука Гуаданьино показывает в «Соперниках» хрупкость мужского эго в тот момент, когда его профессиональные основы шатаются.
История начинается с треугольника между Патриком и Артом (Джош О’Коннор и Майк Фейст), двумя лучшими друзьями, которые являются теннисистами, и Таши (Зендая), которая также является теннисисткой и которая разрушит дружбу между двумя мужчинами, выбрав в качестве романтического партнера лучшего с ракеткой: ничто так не раскрывает несколько критических утверждений о мужественности, как гиперконкурентный мир тенниса. В подтексте фильма Гуаданьино, кажется, передает несколько сообщений. Во-первых, Таши не любит ни Патрика, ни Арта: ей нравится теннис. Оба персонажа знают это и поэтому только через теннис они могут добраться до нее. Во-вторых, гетеросексуальным мужчинам не так уж и нравятся женщины, как побеждать других мужчин. И в-третьих, поскольку мужская психология понимает, что привлекательность мужчины связана с его профессиональной реализацией, спортивная дезориентация в карьере Арта в конечном итоге приводит его к импотенции. Игра, сет и матч.
Как дрон, над нами нависает вопрос: действительно ли нам нужна новая мужская культура?
Часто культура сталкивается с дебатами между воображением и репрезентацией: должны ли истории функционировать как зеркало для зрителя или, наоборот, предпочтительнее, чтобы они открывали воображение для новых реальностей? Именно, если что-то и объединяет эти работы, так это их готовность воображать другие миры и в то же время служить ориентиром для новой общей чувствительности. Помните, когда Марк Цукерберг, основатель Facebook, заявил о необходимости восстановления мужской энергии в начале года? Возможно, все это — это то. И также все наоборот.

