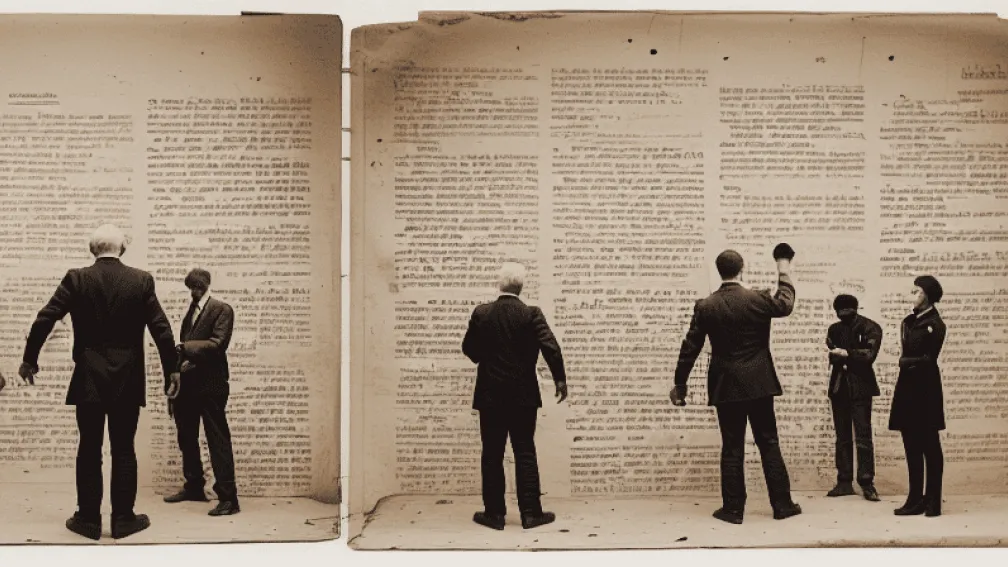
В нескольких словах
Ситуация вокруг книги Луисхе Мартина «Ненависть» поднимает вопросы о границах свободы слова, правах жертв и цензуре. Автор утверждает, что запрет на распространение произведения во имя защиты жертв недопустим, так как подрывает основы демократии и плюрализма мнений, а предварительная цензура ведет к самоцензуре. Свобода выражения мнений, даже неприятных, является неотъемлемым правом общества.
Ситуация, развернувшаяся вокруг издания, распространения и продажи книги Луисхе Мартина «Ненависть» (El odio), опубликованной издательством Anagrama, вывела на передний план некоторые из самых острых конфликтов современного общества: каково место жертвы; кто имеет право голоса и на каких условиях может его реализовать; кто, напротив, вправе требовать публичного молчания по определенным темам; каковы границы свободы слова.
Дискуссии вокруг различных систем убеждений, ценностей и интересов, порой противоречащих друг другу, всегда обогащают общественную жизнь. Однако вызывает сожаление, особенно у многих из нас, посвятивших свою профессиональную жизнь продвижению и распространению печатного слова, что вместо поощрения содержательного обсуждения этих тем обсуждается само распространение произведения (от которого издательство уже отказалось); вызывает сожаление, что вместо веских аргументов поощрялись, поддерживались или сопровождались требования запретить его продажу.
Свобода выражения мнений — это не только индивидуальное право. Это также неотъемлемое право политического сообщества; она не только гарантирует каждому его члену возможность выражать свои взгляды, но и позволяет разнообразию мнений, информации, знаний, аналитики и этических, эстетических и идеологических позиций стать основой демократического диалога, благодаря которому принимаются наилучшие решения. Демократия — это не только способ избрания правителей, это также образ совместной жизни и эпистемологический режим, основанный на максимально широком распространении идей и мнений.
Эта свобода требует постоянной практики толерантности. Но толерантность — это не субъективный, добровольный и индивидуальный выбор тех, кто решает быть снисходительным к иному и к иным. Это политическая обязанность и, в конечном счете, конституционная обязанность, поскольку от нее зависит политический плюрализм, закрепленный как «высшая ценность» в первой статье Конституции Испании.
Разумеется, существует право жертв. И, безусловно, может существовать напряженность между правом не становиться жертвой снова и снова посредством публичной демонстрации травмирующих событий и свободой выражения мнений, которая лежит в основе демократического порядка. Жертвы заслуживают нашей эмпатии, нашего уважения и нашей заботы. Но во имя этой эмпатии, этой заботы и уважения невозможно подрывать основы политического строя. Те, кто нарушает эти принципы, могут быть подвергнуты моральному осуждению и, если потребуется, уголовному преследованию. Но недопустимо, чтобы во имя жертв, как это делают сегодня многие, навязывалась предварительная цензура произведения, автора и издательства.
Разве следовало запретить издание романа Мартина Эмиса «Зона интересов», потому что он написан с точки зрения нацистского офицера, чья жизнь и жизнь его семьи мирно протекает рядом с крематориями? Или следовало бы запретить показ фильма «Жизнь прекрасна» за то, что он представляет трагедию нацистских лагерей смерти в комедийном ключе? Или мы бы согласились с ортодоксальными еврейскими общинами Нью-Йорка, которые пытались помешать премьере оперы Джона Адамса «Смерть Клингхоффера», потому что она представляет точку зрения палестинцев? Кто дает и кто отнимает право голоса? В этих случаях не жертвы решали, что можно говорить, а о чем следует молчать, тем более не те, кто присваивает себе право говорить от их имени, и уж точно не до ознакомления с произведением, которое пытаются подвергнуть цензуре.
Цензура вредна для демократической жизни; предварительная цензура, та, что происходит до выпуска произведения в обращение, — это не только способ контроля над общественной сферой, но и способ индуцирования будущего поведения, которое еще больше ограничивает свободу слова. Очевидно, что следствием этой ситуации станет то, что авторы, издатели и СМИ будут чувствовать себя скованными при обращении к определенным темам. Те из нас, кто жил при диктатурах, прекрасно знают, что самоцензура еще эффективнее работы самого цензора. Одно из достоинств демократии как раз в том, что она не только позволяет, но и стимулирует свободу.
Наше общество морально взрослое и ответственное. Оно может решить читать и сформировать собственное суждение; может решить не читать из-за неприятия предложенного содержания или его трактовки; но оно не может быть лишено права решать, что читать, даже если это право причиняет боль и страдания, если только не нарушаются конкретные правовые нормы. Подобно уголовно-процессуальным гарантиям, которые защищают преступников, даже самых жестоких, свобода выражения мнений призвана защищать распространение того, что нам не нравится, что мы осуждаем морально или политически, чего мы предпочли бы, чтобы не было сказано или написано. Она существует не для защиты того, что нам приятно, а того, что находится на противоположном полюсе, на границах допустимого.
Безусловно, все можно сказать о рассматриваемой книге. Также, если кто-то сочтет необходимым, о ее авторе. Но недопустимо, чтобы, даже с самыми лучшими намерениями, наносился непоправимый ущерб демократическим и правовым принципам политического сообщества, одной из основ которого является публичное и свободное обращение печатного слова, даже если, и особенно когда, это не то слово, которое мы хотим услышать, когда это слово, которое мы предпочли бы не слышать.

