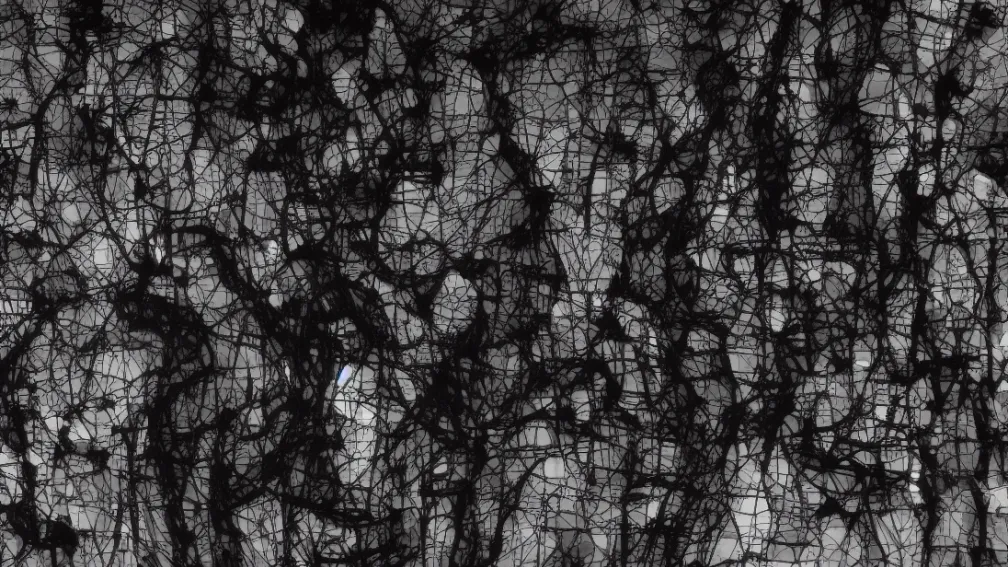
В нескольких словах
Язык обладает силой ранить, но также и формировать нашу идентичность. Оскорбления могут привести к чувству уязвимости и дезориентации, но также могут стать отправной точкой для сопротивления и переосмысления себя в обществе.
Когда мы заявляем об обиде, нанесенной словами, что мы на самом деле заявляем?
Мы приписываем языку силу действия, (...) способность ранить, и позиционируем себя как объекты на его травмирующей траектории. Мы утверждаем, что язык может действовать и действует против нас, и это утверждение, которое мы делаем, является еще одним проявлением языка, который пытается противостоять силе предыдущего проявления. Мы применяем силу языка, даже когда пытаемся противостоять его силе, оказавшись в ловушке цикла, который не может быть разорван никаким актом цензуры.
Мог бы язык причинить нам вред, если бы мы не были, в определенном смысле, лингвистическими существами, нуждающимися в языке для существования?
Является ли наша уязвимость перед языком следствием нашей собственной конституции? Если язык формирует нас, то эта формирующая сила предшествует и обусловливает любое решение, которое мы можем принять по этому поводу; так сказать, его предшествующая сила оскорбляет нас с самого начала.
Больше информации
Джудит Батлер, философ: «Если вы жертвуете меньшинством, таким как трансгендеры, вы действуете в рамках фашистской логики»
Однако со временем оскорбление приобретает свою специфическую пропорцию. Оскорбление – одна из первых форм лингвистического вреда, которую мы можем усвоить. Однако не все оскорбления наносят вред. Оскорбление также является одним из условий, посредством которых субъект формируется в языке; фактически, это один из примеров, который приводит Альтюссер для понимания «интерпелляции». Вытекает ли ранящая сила языка из его силы интерпеллировать? И как появляется, если появляется, лингвистическое действие в этой среде уязвимости?
Проблема оскорбительной речи поднимает вопрос о том, какие слова ранят и какие представления оскорбляют, что предполагает, что мы сосредотачиваемся на тех частях языка, которые произносятся, которые могут быть произнесены и которые являются явными. Тем не менее, лингвистический вред, по-видимому, является следствием не только слов, которые мы произносим, но и самого способа их произнесения (общепринятого способа или отношения), который интерпеллирует субъекта и формирует его.
Нас не только определяют полученные оскорбления. Мы также чувствуем себя презираемыми и униженными. Однако это «имя» также парадоксальным образом дает нам определенную возможность социального существования, начатую во временной жизни языка, которая выходит за рамки предварительных целей, которые вдохновляют это оскорбление. Таким образом, оскорбление может предстать как нечто, что замораживает или парализует тех, кто его получает, но также может вызвать неожиданный и расширяющий возможности ответ. То, что нас оскорбляют, является интерпелляцией, также может открыть для субъекта возможность дискурса, который использует язык для противодействия оскорблению, объектом которого он стал. Когда нас оскорбляют, запускается сила, которая затрагивает того, кто оскорбляет. Что это за сила и как мы можем понять ее линии разлома? (...) Когда речевой акт ранит нас, мы терпим потерю контекста, то есть мы не знаем, где находимся. Фактически, может случиться так, что то, что является непредсказуемым в оскорбительной речи, – это то, что собственно составляет ущерб, в том смысле, что выводит получателя из-под контроля. Способность ограничить ситуацию речевого акта подвергается опасности в момент оскорбления. То, что к нам обращаются в оскорбительной форме, – это не только быть открытыми для неизвестного будущего, но и не знать момент и место оскорбления и чувствовать себя дезориентированными относительно нашей позиции как следствия этого высказывания. В этот момент выставляется именно изменчивость «места», которое мы занимаем в сообществе говорящих, с дискурсом, который может «поставить нас на наше место», несмотря на то, что это место может и не быть местом.
«Лингвистическое выживание» подразумевает, что язык в некоторой степени является местом определенного типа выживания. Фактически, в речи ненависти постоянно делаются ссылки такого типа. Утверждать, что язык ранит, или, говоря словами Ричарда Дельгадо и Мари Мацуды, что «слова ранят», – это сочетание лингвистического и физического словаря. Использование такого термина, как «ранить» [wound], предполагает, что язык может действовать параллельно физической ране или боли. Чарльз Р. Лоуренс III называет расистскую речь «вербальной агрессией», подчеркивая, что эффект расовой инвективы «похож на пощечину. Рана мгновенна». Некоторые формы расовых оскорблений «вызывают физические симптомы, которые временно выводят жертву из строя». Эти формулировки предполагают, что лингвистические раны функционируют как физические, но использование сравнения также предполагает, что это, в конце концов, сравнение разных вещей. Однако следует учитывать, что сравнение также может подразумевать, что обе вещи сопоставимы только метафорически. Фактически, похоже, что не существует специального языка для проблемы лингвистических ран, которые, так сказать, вынуждены заимствовать свой словарный запас из физических ран. В этом смысле кажется, что метафорическая связь между физической и лингвистической уязвимостью имеет важное значение для описания самой уязвимости. С одной стороны, тот факт, что, похоже, нет «собственного» описания лингвистической травмы, затрудняет определение специфического характера лингвистической уязвимости по сравнению с физической уязвимостью. С другой стороны, тот факт, что физические метафоры снова и снова появляются для описания лингвистической травмы, предполагает, что это соматическое измерение может быть важным для понимания лингвистической боли. Определенные слова или формы обращения к человеку не только представляют угрозу для его физического благополучия, но и, по-видимому, могут функционировать как угроза для его тела или как поддержка.
Язык поддерживает тело не потому, что он его буквально рождает или питает, а потому, что, будучи интерпеллированным в терминах языка, становится возможным определенное социальное существование тела. Чтобы понять этот момент, мы должны представить невозможную сцену: тело, которому еще не дали социального определения, тело, которое, строго говоря, для нас недоступно, и тем не менее становится доступным, когда к нему обращаются, когда его вызывают с интерпелляцией, которая не «открывает» это тело, а принципиально составляет его. Мы могли бы подумать, что для того, чтобы к нам обратились, нас должны сначала узнать, но здесь кажется уместной альтюссерианская инверсия Гегеля: факт обращения к существу составляет его в рамках возможной схемы признания и, следовательно, вне этой схемы, составляет его в низости. (...) То, что нас интерпеллируют, – это не просто то, что нас признают тем, кем мы уже являемся, а скорее получение термина, посредством которого становится возможным признание существования. Мы приходим к «существованию» в силу этой фундаментальной зависимости, когда Другой интерпеллирует нас. Мы можем «существовать» не только потому, что нас признали, но и, в более раннем смысле, потому, что нас можно «признать». Термины, которые облегчают признание, сами по себе являются условными, эффектами и инструментами социального ритуала, который решает, часто посредством исключения и насилия, лингвистические условия жизнеспособных субъектов. Джудит Батлер (Кливленд, США, 1956), философ. Этот текст является редакционным предварительным просмотром книги «Слова, которые ранят. Об оскорбительной речи и политике перформативности» издательства Paidós, которая выходит 30 апреля.

