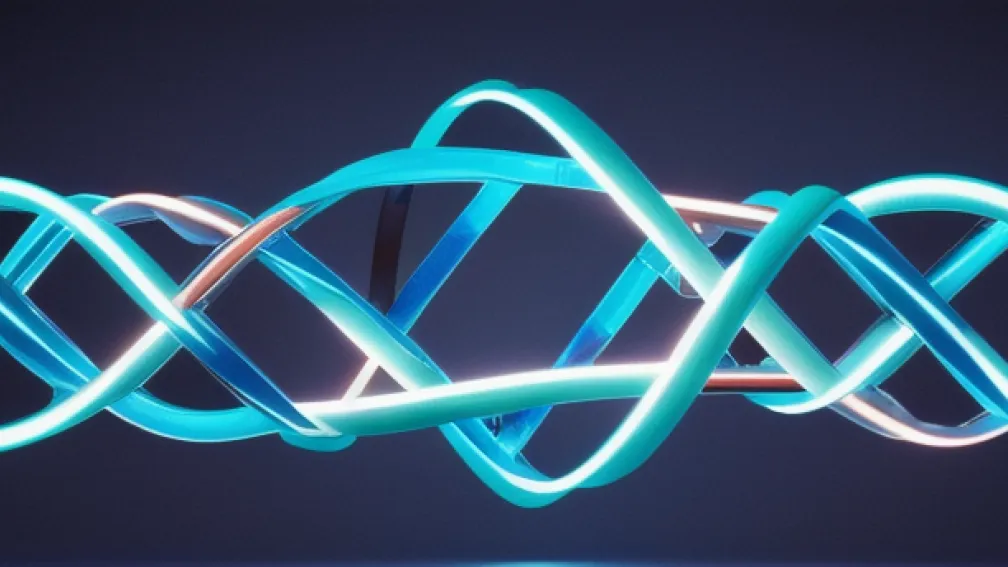
В нескольких словах
Исследование выявило новый механизм наследования у червей, не связанный с ДНК или РНК, а основанный на передаче амилоидных белков с прионными свойствами. Это открытие может объяснить «потерянную наследуемость» признаков и заболеваний, не объяснимых генетически. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения роли этого механизма у людей и других организмов.
Немало крупных открытий совершаются случайно, хотя, как правило, удача улыбается тем, кто усердно трудится. Мэтью Эроглу и его исследовательская группа из Университета Торонто начинали изучать роль пары генов в связи с раком, когда произошло нечто странное, что полностью изменило их цель. Черви, которых они использовали, обычно гермафродиты, легко размножающиеся, с каждым поколением становились все более женственными и в конечном итоге становились бесплодными. Удивление перед чем-то, чего они раньше никогда не видели, заставило их направить все свои усилия на «исследование того, что вызывает этот наследуемый эффект», — объясняет Эроглу.
Работа в последующие годы привела их от первоначального удивления к еще большим открытиям. Эффект был вызван чем-то, что наследовалось и накапливалось в потомстве, но не имело ничего общего ни с нуклеиновыми кислотами (ДНК или РНК), ни с чем-либо, что влияло на этих «королей» наследственности, что противоречит тому, что было известно до сих пор у животных. Этим «чем-то», и это стало окончательным сюрпризом, были белки с амилоидной структурой и прионными свойствами, подобные тем, которые накапливаются в бляшках при болезни Альцгеймера, которые могли передаваться из поколения в поколение и со временем размножаться, «вампиризируя» своих соседей.
Исследование было опубликовано на обложке журнала Nature Cell Biology. По словам Татьяны Вавури, руководителя группы в Исследовательском институте Josep Carreras по борьбе с лейкемией, эксперта в области эпигенетических процессов и их передачи, которая не участвовала в этой работе, «это очень хорошее исследование, которое раскрывает новый механизм наследования. Это очень ново».
Хотя новое открытие еще не изучено и не протестировано на людях, по словам Эроглу, «это дополнительный механизм, который действует поверх генов и может объяснить часть «потерянной наследуемости» — тот факт, что некоторые признаки (такие как рост или интеллект) и заболевания (такие как диабет, неврологические расстройства или некоторые виды рака, среди прочих) ведут себя более наследственно, чем это могли объяснить гены до сих пор. Еще более убедителен Брент Дерри, руководитель группы, для которого открытие «полностью меняет наше представление об этой области».
Путь исследования: tour de force
Caenorhabditis elegans — это прозрачный червь, который живет всего три недели, очень легко размножается и является звездой многих лабораторий мира. Более 99% из них — гермафродиты, которые следуют своеобразному циклу: когда они являются личинками, их первые 150 половых клеток превращаются в сперму; сразу после этого оставшаяся половина превращается в женские яйцеклетки. Когда Эроглу и его группа инактивировали гены, которые они изначально хотели изучить, они заметили, что количество потомков уменьшается с каждым поколением, вплоть до исчезновения, если их выращивать в тепле, что эти животные переносят с определенным стрессом.
Любопытно, что каждое поколение производило меньше спермы и больше яйцеклеток, пока в конце концов не производило только последние. Черви-гермафродиты феминизировались, и это не передавалось генетически: изменения накапливались, происходили также в тепле у нормальных, немодифицированных червей — хотя и в более легкой форме, потому что они всегда продолжали производить немного спермы — и, кроме того, были обратимыми, возвращались, если их выращивали при несколько более умеренных температурах. Это была форма эпигенетического наследования: поверх генов.
Эпигенетику можно широко определить как маркировки или изменения, которые влияют на поведение генов и могут передаваться дочерним клеткам, но не изменяют последовательность ДНК. И они вращаются вокруг двух нуклеиновых кислот. Когда исследователи начали свою почти бесконечную серию экспериментов, они, однако, не смогли идентифицировать ничего из известного, что могло бы играть роль.
Они заметили только одно очевидное различие, и в этом была суть. При рассмотрении под микроскопом феминизированные черви содержали зеленые самофлуоресцентные точки, похожие на «блестящие капли», по словам Эроглу, которые росли из поколения в поколение. Они назвали их «herasomas», и внутри них находился ключ к механизму: они содержали белки, сложенные в форме амилоида, аналогичные тем, которые накапливаются при болезни Альцгеймера (хотя и не те же самые). Когда им давали вещества, затрудняющие их образование, эффект уменьшался. Когда им вводили амилоиды из феминизированных червей, животные воспроизводили тот же процесс и передавали его в течение нескольких поколений. «Этого было достаточно, чтобы вызвать эффект. Это самая простая модель, объясняющая наблюдения», — заключает Эроглу.
Амилоидные белки могут быть очень разными, но их так называют из-за определенной структуры, которую они образуют при складывании. И у них есть очень специфическая характеристика: они могут размножаться, «заражая» своей формой другие похожие белки, с которыми они вступают в контакт. Эта «вампиризация» — это способ распространения прионов, которые по сути являются еще одним типом амилоидных белков. Хотя их слава ужасна, их характеристики позволяют им играть важную роль, например, в хранении гормонов или, возможно, в формировании памяти. И, как пишет профессор Гарвардского университета Крейг П. Хантер в тексте о новом открытии: «Точно так же, как ДНК, амилоиды реплицируются, используя себя в качестве модели, что делает их идеальными носителями приобретенной наследственной информации». Это, что наблюдалось в дрожжах, теперь впервые подтверждено у животных, которые гораздо сложнее.
Как им удается добиться этого особого влияния на пол? По-видимому, амилоиды в конечном итоге могут нарушить соотношение двух ключевых белков в развитии половых клеток, которые обычно чередуются в жизни червя, как качели. С первым производятся сперматозоиды, с подъемом второго — яйцеклетки. Если движение нарушено, он будет производить только последние.
Обложкой журнала, в котором была опубликована статья, был фон экрана, который Эроглу носил в своем мобильном телефоне в течение многих лет: изображение, сделанное им самим, червя в момент, когда он переключается с производства спермы на производство яиц. Как говорят в его университете: «идеальная метафора для его открытия. Исследуя одно, он открыл другое».
Какова его эволюционная ценность? Происходит ли это у людей?
Подавляющее большинство этих червей размножаются самостоятельно, гермафродитно. Когда окружающая среда становится стрессовой или угрожающей, может быть полезно изменить эту рутину: если вместо того, чтобы быть самодостаточными, они скрещиваются с другими, они увеличивают разнообразие своих генов и, следовательно, возможности найти ответы на новую угрозу. В этом случае накопление амилоидов в большей или меньшей степени феминизирует червей, заставляя их производить меньше спермы, побуждая их спариваться с самцами, которых они находят. Это был бы тип адаптации, аналогичный тому, который предложил Ламарк, натуралист, для которого эволюция происходила из-за изменений, которые организмы генерировали при адаптации и которые затем передавали — например, жирафы, которые вытягивали свои шеи, — а не из-за случайности и дарвиновского отбора.
Эпигенетика предложила Ламарку посмертную лазейку, хотя и относительной ценности. Природа, похоже, сговаривается против него и стремится стереть большинство этих меток, когда формируются организмы потомства. И он делает это особенно у животных, таких как мы, которым требуется много лет для размножения, а не несколько недель, как червям, давая время для размывания возможных меток.
На самом деле, описано лишь несколько изменений этого типа, передающихся у людей, и они все еще подвергаются сомнению. Некоторые из наиболее известных работ — это те, которые обнаружили метаболические изменения у внуков тех, кто пережил сильный голод в Голландии во время Второй мировой войны. Однако для Вавури, хотя «есть эпидемиологическое наблюдение, механизмы, которые их вызывают, еще не доказаны».
Также были обнародованы возможные эпигенетические изменения, передаваемые после травмы, вызванной во время Холокоста, но эти исследования подверглись критике за их методы и интерпретации, и их биологическое значение кажется неактуальным. «Есть много факторов, которые могут влиять и сбивать с толку в этом типе исследований, где вступает в игру психологическое», — объясняет Вавури. «Кроме того, различия очень малы, и их важность трудно принять».
Однако проблема «потерянной наследуемости» остается, тот факт, что буквы генов не объясняют часть модели наследования, которая наблюдается для многих признаков или заболеваний. Могут ли амилоидные белки быть дверью, которая поможет закрыть этот пробел в знаниях?
Эроглу признает, что неизвестно, что может вызвать накопление этих белков и играют ли они роль в нас, но также отмечает, что «амилоидные агрегаты наблюдались в яйцеклетках человека, хотя мы не знаем, что они делают и какова может быть их значимость», и что «по крайней мере одна группа исследует, происходит ли это наследование амилоидов у крыс». Эту группу возглавляет Гейл Корнуолл, исследователь из Университета Техаса. Отвечая на вопрос об этой работе и ее последствиях, она уверяет, что она «в восторге». Амилоидные белки «являются идеальным механизмом для организмов, чтобы попробовать новые фенотипы [наблюдаемые признаки] перед их генетической модификацией. Можно подумать, что природа не исключит такой мощный механизм адаптации у высших организмов», — объясняет она по электронной почте.
Однако для Вавури «в природе есть много примеров того, что то, что может показаться логичным, не происходит в действительности. Не говоря уже о том, что ученые думают о многих логических гипотезах, которые потом не подтверждаются. Это интересно для исследований, но мы до сих пор не знаем, происходит ли это у людей или даже у млекопитающих, и что это может означать». Для исследователя «это механизм, который уже имеет ценность, даже если он не будет доказан у людей. Мир намного больше, чем мы, и этот тип открытий может даже повлиять на нас другими способами».
По словам Эроглу, «ничто из этого не противоречит тому факту, что гены определяют подавляющее большинство наследственности. Однако есть признаки, которые не полностью объясняются вариациями в их последовательности». В пресс-релизе университета он добавляет: «Существует этот альтернативный механизм поверх ДНК. Кто знает, что он может сделать? Можем ли мы обнаружить что-то, что не меняет пол, но меняет другие признаки? Или что предсказывало бы заболевания, для которых мы не можем полагаться только на ДНК?»
Последний абзац его статьи, хотя и с оговорками, был принят редакторами журнала и гласит: «Основной вывод заключается в том, что стабильно наследуемые белки могут действовать как резерв еще не изученных модификаторов, независимых от генетической последовательности, потенциальный источник потерянной наследуемости. Хотя это и является спекулятивным, широта семейных признаков, которые не могут быть в значительной степени отнесены к вариациям генетической последовательности (например, диабет 2 типа, некоторые виды рака, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз и аутистический спектр), предполагает эту идею».
