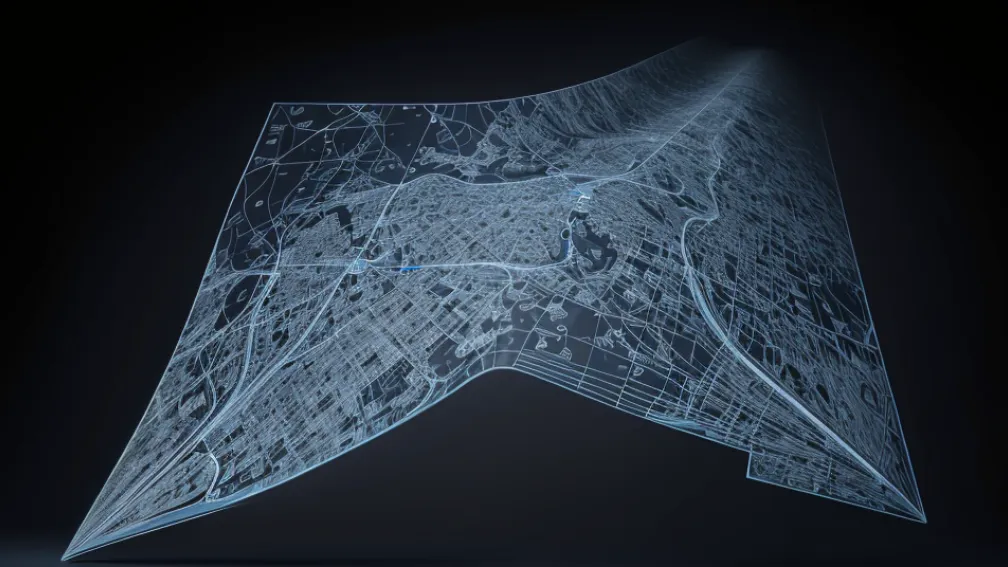
В нескольких словах
Журналистка Андреа Проенса представила книгу «Картографии любовного желания», в которой исследует, как культурные продукты и социальные нормы влияли на представления миллениалов о любви и отношениях, критикуя патриархальные установки и подчеркивая политический характер чувств.
Журналистка Андреа Проенса представляет свой первый очерк «Картографии любовного желания». В нем она исследует, как культура, технологии и социальные нормы, в частности нормативная гетеросексуальность и коммерциализация чувств, сформировали представления о любви и отношениях у поколения миллениалов.
Проенса вспоминает, как в 12 лет составила список жизненных целей, среди которых было «найти настоящую любовь». «Культурные продукты с самого раннего возраста начали прививать нам идею нормативной гетеросексуальной пары, брака и семьи как идеала счастья. Нам внушали, что гетеросексуальная моногамная пара важнее всего, а альтернатива – остаться одной, прослыть старой девой – считалась неудачей», – говорит она.
Поняв, что «каждое поколение переживает любовь по-разному», Проенса решила изучить, как миллениалы (родившиеся в 1990-х – начале 2000-х) усваивали определенные послания о том, «как мы должны строить наши эмоциональные связи». В книге «Картографии любовного желания» она объединяет феминистскую генеалогию с личным опытом журналистки и блогера, чтобы взглянуть на любовь с других позиций, отличных от навязанных обществом ограниченных представлений.
Проенса стремилась продолжить традиции писательницы Кармен Мартин Гайте и создать карту любовных практик миллениалов. По ее словам, мало кто рассказывал, как это поколение унаследовало элементы социализации от матерей и бабушек, сильно связанных с религией, и одновременно оказалось под влиянием молодежных женских журналов, романов вроде «Сумерек» или «Три метра над уровнем неба», а также интернета, социальных сетей, капитализма и общества потребления.
Отвечая на вопрос о значении слова «картография» применительно к любовному желанию миллениалов, Проенса говорит: «В том, что касается любви и желания, мы всегда шли по уже проложенным путям, и нам не давали исследовать другие возможности. Это проявляется во всем – от культурных продуктов, влияющих на нас с юности, до ближайших примеров в семье. Все следует по пути гетеросексуальности как наиболее гегемонному». Она считает, что миллениалы – вместе с женщинами из диссидентских идентичностей, которые думали об этом раньше – в рамках четвертой волны феминизма, связанной с трансфеминизмом и квир-теорией, экспериментируют с другими формами отношений и понимания любви и желания. Идея «картографий» помогает расширить этот узкий путь, заставлявший двигаться только в одном направлении.
На вопрос о том, что она искала, написав книгу, Проенса отвечает, что весь очерк – это поиск: попытка лучше понять собственную идентичность и помочь другим женщинам лучше понять свои отношения с окружающими, не только любовные. «Сейчас, когда мне почти 30, я ищу другие способы понять любовь», – добавляет она.
Проенса подчеркивает, что понимание любви тесно связано с историческим, социальным и географическим контекстом: «Чувства всегда были очень связаны с эмоциями, над которыми у вас нет никакой власти. Любовь считалась чем-то иррациональным, неподконтрольным. Но это не так. Изучать чувства, включая любовь, значит понимать, что мы – тела, постоянно находящиеся во взаимосвязи с другими телами и одновременно с окружением – не только географическим или пространственным, но и временным, политическим, экономическим». То, что нас учили считать субъективным, на самом деле обусловлено множеством факторов. Речь не столько о том, что такое любовь, сколько о том, как любовь влияет на нас в конкретном контексте.
Она также рассуждает о том, насколько миллениалы унаследовали любовные модели от поколений своих матерей и бабушек. «Наше поколение жило в двух сферах: нарративы, связанные с капиталистическим миром и обществом потребления, и одновременно чувство вины, связанное с консервативным окружением. Мы наблюдали расцвет «сексуального освобождения» женщин, но с суперпатриархальным наследием, тесно связанным с религией. Всегда существовала дихотомия «мать или шлюха» для женщин», – отмечает Проенса.
Исследуя влияние диснеевских фильмов, молодежных журналов, романов и романтических комедий на социализацию, Проенса задается вопросом: использовалась ли концепция «настоящей любви» для оправдания патриархальных властных отношений? «Все эти культурные продукты, включая журналы с тестами типа «Как влюбить парня за пять дней?», «Как узнать, нравишься ли ему?», «Как привлечь его внимание?», внедряют в наше сознание идею, что наше счастье зависит от того, будем ли мы с мужчиной, и что наша ценность определяется наличием нормативной гетеросексуальной пары», – считает Проенса. Постоянно получая такие сигналы, женщина приходит к мысли, что если она останется одна, она будет несчастна, а если ее обманут, нужно смириться, потому что альтернатива будет хуже. Нас не учат, что гетеросексуальная моногамная пара – это лишь один из многих типов отношений, наряду с дружбой или семейными связями. Нас заставляют верить, что выход за рамки традиционной нуклеарной семьи неизбежно ведет к несчастью. Единственная альтернатива счастью, по сути, – соответствовать модели «ангела домашнего очага» в реалиях XXI века. Проенса видит, как реакционные движения сегодня, в том числе в соцсетях, пытаются вернуть нас к этому – романтизировать гетеросексуальную жизнь, где женщина остается дома, а мужчина – кормилец.
У женщин и представителей диссидентских групп поколения миллениалов, по мнению Проенсы, с самого начала социализации формировалось ощущение, что им указывают, как себя вести, даже в отношении их желаний. «Когда постоянно видишь идеальные сюжеты, увековеченные в романтических комедиях, которые всегда гетеросексуальны, это обуславливает наше понимание и проживание отношений. В конечном итоге мы ищем то, что нам знакомо, то, что видели с юности», – говорит Проенса. Любовь, по ее мнению, больше состоит из символических кодов, чем из реальных связей. Поэтому, говоря о любви, мы представляем свидание при свечах или прогулку за руку – это серия кодов, заставляющих нас стремиться вести себя и строить отношения определенным образом.
Проенса затрагивает тему сексуального желания, ссылаясь на книгу Амии Шринивасан «Право на секс», которая говорит о том, как миллениалы и поколение Z учатся сексуальности через порнографию. Так формируется представление о том, как женское тело должно вести себя во время сексуального контакта: стонать, выгибать спину или втягивать живот, чтобы казаться красивой, соблазнительной и сексуальной – таким образом, который всегда был сконструирован мужским взглядом. Эти культурные артефакты создают очень конкретное давление на то, какими должны быть наши тела, но не затрагивают темы, как мастурбация или менструация. Культурные артефакты формируют наш собственный вкус, то, что мы желаем, и то, кем должны стремиться стать.
Спрашивая о том, как рассказывать о разнообразии, когда существуют практически единственные «идеалы» любви и счастья, Проенса делится опытом бесед о бисексуальности: «Все они сводились к сомнениям, незнанию, отсутствию слов, чтобы назвать то, что они чувствовали». Она цитирует Элизу Колл из книги «Бисексуальное сопротивление»: «То, что не мыслится, что не воспринимается, не существует». Речь идет не только о том, что неназванное не существует, но и о том, чтобы даже не знать, что нечто возможно, что его можно представить. Проенса вспоминает подростковые сериалы и фильмы, где в большинстве не было персонажей вне гетеронормы. Когда они появлялись (например, гей-пара в сериалах), это всегда было исключение. Но вариантов больше. Беседы с бисексуальными женщинами показали Проенсе, что многие обнаруживали в себе то, что никогда не представляли или не видели отраженным где-либо. Ценность таких бесед в осознании, что твой опыт не уникален, что многие переживают то же самое, и возможность назвать это и поделиться с другими невероятно важна.
Именно поэтому Проенса пишет: «Чтобы потом говорили, что любовь не политична». Она считает, что была эпоха, когда все, что касалось любви, обесценивалось, поскольку было тесно связано с женским опытом. Это следствие дихотомичного восприятия общества: частное и публичное; мужчина и женщина; гетеросексуальное и гомосексуальное; культурное (принадлежащее мужчине) и природное (относящееся к женщинам, чувствам и эмоциям), что считается неподконтрольным и низшим. Заявить, что любовь и чувства не просто происходят изнутри или естественны, а полностью связаны с миром, в котором мы живем, с функционированием общества, политикой или экономикой, – очень революционно. Ведь любовь – это не только «я влюбилась», это и то, как организованы города, жилье, уход или совместная ответственность за воспитание детей. Это абсолютно политические вопросы.
Какие инструменты есть для противодействия динамике романтической любви и переосмысления отношений? Проенса считает, что первым шагом должно стать приобретение интерсекционального феминистского сознания. Она призывает феминисток-творцов создавать фильмы, сериалы и писать романы с другой позиции, отличной от той, на которой мы выросли, чтобы начать строить отношения, ломающие усвоенные шаблоны. И речь не только о более нормативных женщинах, но и о женщинах разных рас, представителях других идентичностей или сексуальных диссидентов, людях с лишним весом, транс-персонах или людях с инвалидностью. Они должны стать главными героями историй, которые помогут другим в деконструкции. И мы – широкое «мы» – должны занимать эти пространства, иметь голос и быть услышанными. Необходимо создавать новые образцы и представления для новых поколений в соцсетях, культуре и СМИ. И всегда давать место противоречиям, потому что никто не идеальная феминистка, и мы к этому не стремимся.
