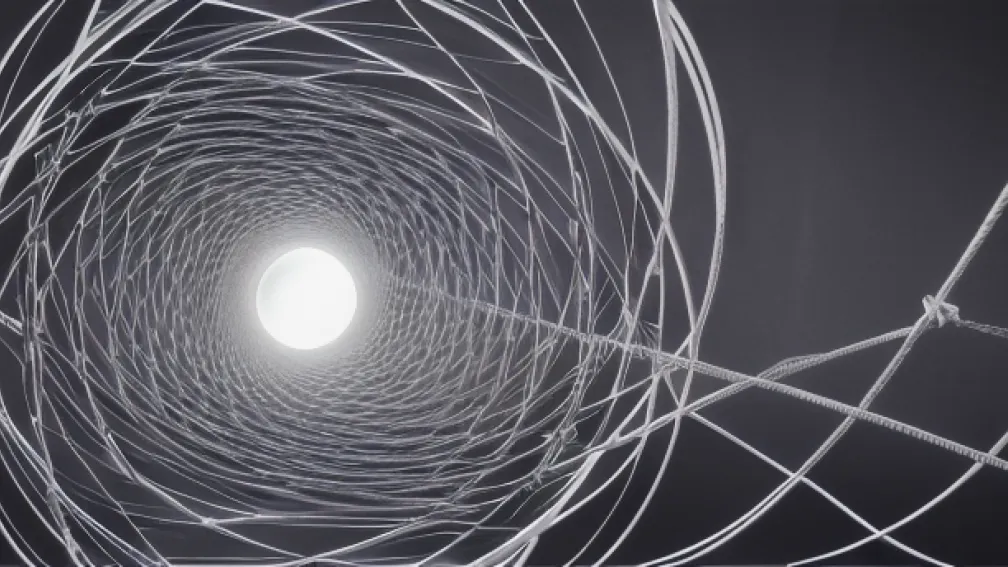
В нескольких словах
В статье рассматривается проблема подмены диалога простым высказыванием мнений, что ведет к «погружению в себя» и затрудняет обучение и взаимодействие с миром. Автор, опираясь на работы известных философов, предлагает искать способы преодоления этого кризиса, создавая условия для удивления и размышления, чтобы размыть удивление, вызванное алгоритмом, чтобы войти в контакт с реальностью телесного опыта с другим.
Мои студенты часто спрашивают, могут ли они высказать свое «мнение».
Это слово, «мнение», возможно, является способом прикрыть то, что Милан Кундера назвал «невыносимой легкостью бытия», по крайней мере, так я слышу их вопрос. Мнение возникает из любой идеи, в смысле, противоположном фрейдистской ассоциации идей, потому что ассоциировать, ассоциировать, они не слишком ассоциируют, но говорят то, что думают: по их словам, студенты университетов, изучающие гуманитарные и социальные науки, «за» или «против» чего-либо, даже если они этого не знают, не читали об этом и даже не обсуждали с кем-либо или не смотрели сериал на Netflix. Мнение – это когда говорят что-то, что не обязательно оказывает влияние или способствует диалогу: вы «за» или «против», как в опросах общественного мнения.
Ева Иллуз изобрела неологизм для этого псевдовыражения современного индивидуализма: emodity (парафразируя объект потребления, товар). Подобно тому, как существует рынок мнений, существует и рынок эмоций. Иллуз цитирует в своей книге «Капитализм, потребление и подлинность» (Katz Editores, 2019): «Субъективность переместилась в радикальную плоскость имманентности, в которой не коллективные чувства придают смысл, а скорее объекты и эстетические переживания, в которых ощущения и эмоции становятся самореферентными элементами и действуют как агенты субъективации, как отправные точки субъективного, эмоционального опыта». И добавляет: «Чтобы немного изменить выражение Ханны Арендт в другом контексте, эмоции находятся в том, что она назвала промежуточной позицией человеческого существования, в данном случае между субъективностью и объектом, между эмоциями и практиками потребителя».
То, что мои студенты определяют как мнение, занимает это промежуточное положение между тем, что они, как им кажется, знают или думают (без диалектики с другими), и рынком мнений (в социальных сетях, например). Мнение выполняет нормативную функцию в современной жизни. Мои студенты считают, что это представляет их, когда на самом деле это классифицирует и стандартизирует их, хотя и не полностью, все еще есть то, что они могут думать и говорить. Но где здесь другой? Другой – это мнение, которое можно добавить к моему или которое может противоречить тому, что я говорю, но которое ни в коем случае не оспаривает – нет никакого «зовa». Это можно понять даже на экзамене, где вопрос учителя задан в письменной форме: «ответьте на следующие вопросы», – обычно говорится в утверждении. Один студент из моей группы пояснил, что не ответил на вопрос номер три, потому что «он ему ничего не сказал».
Иллуз защищает возможность «постнормативной критики», которая не отвергает переживания (необходимо выслушивать мнения студентов), но находит способ позволить артикулировать разрыв между «быть» и «должно быть»: «серьезно относиться к пониманию, которое каждый актер имеет о себе и своем горизонте ожиданий, не сдаваясь описанию, которое люди дают о себе, потому что нам необходимо сделать возможной формулировку и артикуляцию временных норм». Где остается возможность установить социальную связь в области мнений, которые собираются и отражаются в анкете, метафоре современного погружения в себя?
Я предложил студентам парами записать в тетради то, что они думают о содержании, рассмотренном на уроке. На самом деле, это расшифровка разговора. Большинство студентов начинали свои тексты с такой фразы, например: «Берта и я поговорили и пришли к выводу, что…». Вывод – это конец. Говорить не означает говорить о чем-то, что требует… продолжать говорить. Другой – это средство достижения цели того, что просит сделать учитель. В некоторых заслуживающих внимания исключениях один из студентов пишет «письмо» другому, письмо, для которого не нужно ничего о нем знать, а также о содержании предмета, потому что в этом письме каждый говорит о себе. Мы остаемся в регистре эмоций. Мнение и вывод – это не просто широко используемые, более или менее анекдотичные слова: они отражают способ современной жизни, который все – не только молодые люди – превращаем в повседневный опыт и который мы могли бы назвать определенным погружением в себя, жесткой версией индивидуализма. Подобно тому, как индивидуализм определяет субъекта, который не делится, погружение в себя определяет субъекта, который видит только себя и, следовательно, не может рассмотреть возможность другого – или даже чего-то другого – за пределами себя. Это «в-себе» в сартровском смысле. Я думаю, что современное погружение в себя является одним из главных препятствий для обучения, связи с другими, контакта с миром. Что делать? В одной из своих последних книг «Кризис повествования» немецко-корейский философ Бьюнг Чул-Хан рассказывает о своем прочтении «Рассказчика» Вальтера Беньямина. Беньямин ясно дает понять, что в повествовании всегда должно оставаться что-то, что можно рассказать, открытое для будущих историй. Хорошо построенный рассказ вызывает удивление и побуждает к размышлению. Это «как те семена, которые тысячелетиями хранились в вакууме в камерах пирамид, сохраняя свою всхожесть до сегодняшнего дня». Хан различает повествование и информацию и возвращается к метафоре всхожести, семени повествования, чтобы противопоставить его пылинке информации.
В современном погружении в себя, как и в кризисе повествования и вере в мнение, есть трудность в том, чтобы что-то проросло, «вызвало удивление и побудило к размышлению». Почти ничто не способно удивить, потому что все, что может вызвать удивление, можно увидеть. Вопрос в том, как генерировать переживания, которые позволяют размыть удивление, вызванное алгоритмом, чтобы войти в контакт с реальностью телесного опыта с другим. Что здесь может сделать учитель? Дать время мнению раствориться, дать место истории, которую еще предстоит рассказать.
