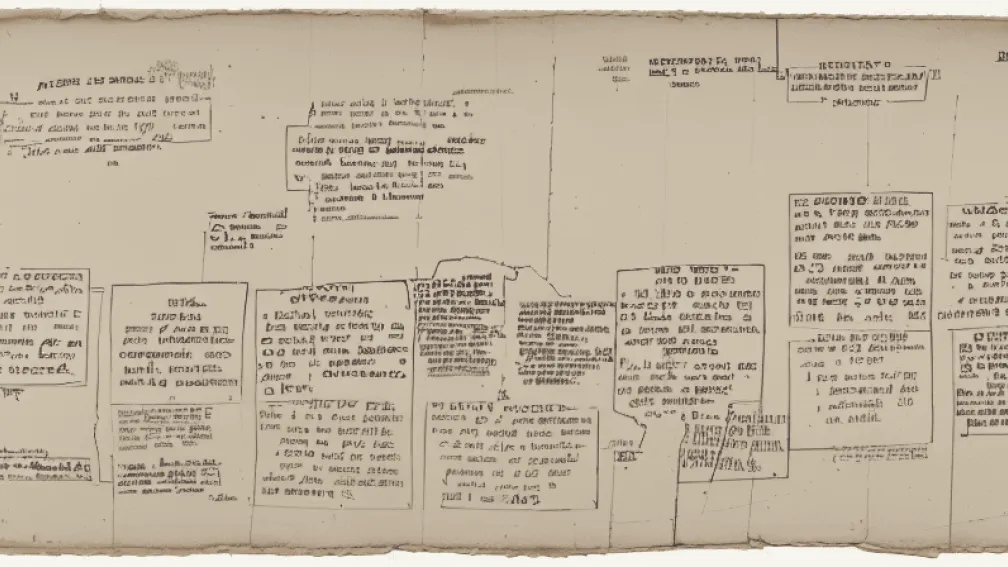
В нескольких словах
Автор размышляет о значении слова «отец» и вспоминает сложную судьбу своего отца: врача, республиканца, пережившего Гражданскую войну в Испании, изгнание в Аргентину, а затем второе изгнание. Текст — это дань памяти и попытка понять человека, чья жизнь была полна борьбы, достижений и трагедии, и осмыслить его наследие и влияние на собственную жизнь автора.
Несколько дней назад мне рассказали, что здесь отмечали День отца. И объяснили, что его празднуют 19 марта в честь святого Иосифа — мифического персонажа, чей миф заключается в том, что он не был отцом своего предполагаемого сына, а лишь мужем его неверной и девственной матери: credo quia absurdum — верую, ибо абсурдно, — говорили отцы той Церкви.
Слово «отец» используется слишком часто. Есть отцы и отцы, и еще раз отцы: отечества, Конституции, крестные, семейства, «ну ты отец», «отче наш»; в Мексике даже что-то «padre» (отцовское) — это очень хорошо: ¡qué padre!, а вот в Испании скорее плохо: ¡tu padre! И все же отец бывает только один.
О своем я всегда вспоминаю прежде всего день его рождения: сегодня, 6 апреля. Он родился в 1928 году в Мадриде. Времена были странные, как и все: после столетий самовлюбленной, яростно пыльной изоляции Испания пыталась снова стать современной страной. Или, по крайней мере, часть Испании пыталась: мой отец был из этой части. Его отец Антонио был врачом, республиканцем круга Асаньи и Атенео; его мать Саграрио, дочь почти демократического генерала, не работала, но знала многое. И их жизни — а также жизни их сына Антонио и дочери Саграрио — открывали многообещающий путь, который 14 апреля 1931 года перестал быть обещанием и показался реальностью.
Все это, как мы знаем, испарилось через пять лет. Меня всегда поражало, как жизнь этих людей, которых я люблю, внезапно разрушилась в один день, 18 июля, навсегда. Мой дед Антонио остался работать в осажденном городе и в итоге руководил госпиталем, пока его не посадили в тюрьму: он провел два года в тюрьме на улице Санта-Энграсия, каждую ночь ожидая, что охранники не назовут его имя, когда вызывали тех, кого убьют на рассвете. Когда он наконец вышел, ему запретили заниматься своей профессией: ему и его семье — нашей семье — пришлось нелегко. Его сына, моего отца, отправили в дом богатого дяди в Альмерии, и так он прожил свои подростковые годы в школе священников провинциального франкизма; большим преимуществом было то, что там он ел каждый день. Наконец, видя, что мировые демократии поддерживают местного фашиста, мой дед Антонио решил бежать на чем-то вроде лодки, которая пересекла путь от Канарских островов до Венесуэлы. Остальная его семья, ни в чем не виновная, смогла уехать в Буэнос-Айрес на настоящем корабле.
И вот мой отец, 20 лет, в чужой стране, с грузом робости и вызова: изучал медицину, стал коммунистом, презирал своих легкомысленных товарищей — вроде того Эрнесто Гевары де ла Серна, шикарного парня, — соблазнял девушек своим акцентом, зелеными глазами, меланхолией. Среди них, несколько лет спустя, и мою мать Марту, юную прилежную студентку, еврейку из Буэнос-Айреса. Мой отец Антонио получил диплом врача, защитил диссертацию о вреде амфетаминов, стал психиатром, принимал все эти амфетамины, чтобы никто не сомневался, что он самый умный.
Многие в это верили. Он был профессором в Университете Буэнос-Айреса, был голосом левых тех многообещающих шестидесятых, был посланником Гевары в тех трясинах и, после его смерти, одним из первых поверил, что Перон может его заменить; был мужем нескольких женщин, был другом четырех или пяти друзей и гораздо большего числа учеников, автором нескольких книг. Но он никогда не прекращал принимать свои амфетамины, и к середине семидесятых, когда ему пришлось снова эмигрировать, он был уже в очень плохом состоянии.
Он умер в своей постели, в родном городе, который уже не узнавал. Изгнание может быть тяжелым; эмигрировать и снова эмигрировать — это перебор. Сегодня я вспоминаю дату его рождения, но его смерть все еще причиняет мне боль. Он прожил много, насыщенно, и прожил мало. Он умер, уже очень больной, в свои 58 лет.
Я думаю, я любил бы его больше, если бы он сберег себя для нас, если бы не предпочел сгореть, чтобы продолжать сиять как можно ярче. Я скучаю по нему: скучаю по тому, кем он был для других, но не для меня. И в то же время я спрашиваю себя, кем он был, кем был тот мальчик, которому пришлось заново строить свою жизнь в чужой стране — как и мне, три десятилетия спустя, — кем был тот юноша, который хотел быть тем, кем должен был быть — кем считал, что должен, — любой ценой, кем был тот мужчина, который побеждал там, где ему было все равно, и проигрывал во всем остальном, кем был тот старик пятидесяти с лишним лет, который понял, что все кончено, — и однажды ночью попытался это подтвердить. «У меня была хорошая жизнь…», — начиналась записка, которую он мне оставил: я лишь надеюсь, что это было правдой.
Я никогда не смогу этого узнать. Мне бы так хотелось узнать своего отца.

