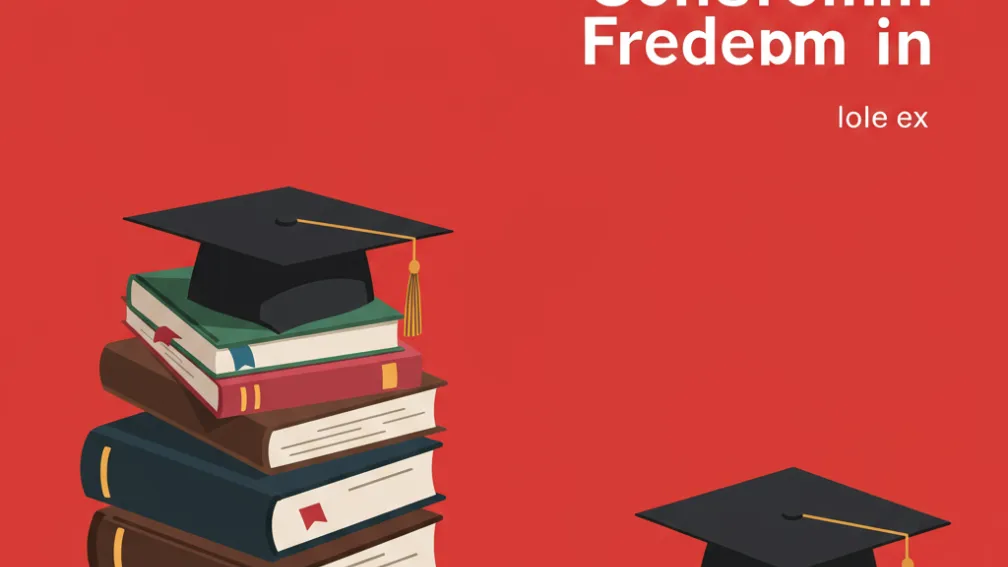
В нескольких словах
Статья посвящена критике политики Дональда Трампа в отношении университетов и академической свободы, а также анализу идеологии меритократии и её влияния на систему образования.
Все чаще встречаются проповедники в судейских мантиях, те, кто облачается в одежды бесстрастных скептиков, чтобы скрыть свой морализаторский цинизм. Они бросились оправдывать нападки Дональда Трампа на университеты, утверждая, что это законный ответ на эксцессы «пробуждения» (woke) и их программы доступа к университетам. Они не умеют скрывать, что в глубине души вполне довольны своим моральным крестовым походом. Они выдают фразы вроде: «Не заслуга быть умным, но умных надо вознаграждать. Так устроен мир», – речь такая же пустая и бессодержательная, как и их собственные убеждения. И самое лучшее во всем этом – они считают себя выше добра и зла. Проблема, конечно, не в том, что у них есть моральная позиция – она есть у всех, – а в том, что они облекают ее в простой здравый смысл, вместо того чтобы открыто заявлять о своих ценностях.
Здорово, что Мбаппе играет в футбол так, что мячу, кажется, страшно оторваться от его ноги: это часть генетической лотереи. Но неверно, что его успех – это признание его добродетели. Это результат жизни в обществе, которое решило короновать тех, кто умеет зарабатывать деньги, выполняя пируэты с мячом. Нет никакой моральной заслуги в том, чтобы жить в месте, которое вознаграждает мои сильные стороны. Этот аргумент принадлежит не мне, а таким мыслителям, как Ролз, Сандел или Дворкин, которые сегодня не прошли бы даже самый простой тест ненавистников «пробуждения», этих самовлюбленных меритократов, защищающих привилегии, замаскированные под эффективность, мораль, которую, кстати, разделяет и Трамп. Поэтому она им и нравится, хоть они и притворяются. Но эти странные философы, которые осмелились задуматься о справедливости более сложным образом, напоминают нам, что речь идет не только о вознаграждении «самых одаренных». Прием в университет – это не трофей для тех, кто «усерднее работал» или «самых способных», а механизм, который должен отражать важнейшую социальную миссию, которую университет решил принять. Справедливо не давать места тем, кто «более достоин» в системе, которая уже изначально предвзята; справедливо – создать систему, которая выполняет социальную функцию, даже если это означает беспокойство для тех, кто считает, что заслуги так же абсолютны, как золото.
Самое трогательное во всем этом – игра в отвлечение внимания. Мол, дебаты идут между меритократией и идентичностью, что левые «пробужденные» разрушили университет, что прежнего ректора Гарварда отстранили за плагиат… «Профессора – враги», – сказал Дж.Д. Вэнс, республиканский эквивалент нашего «да здравствует глупость», и выдал это как смелое заявление, а не последние отбросы плохо переваренной обиды. По иронии судьбы, сегодня Гарвард является центром сопротивления тому, что на самом деле происходит. Кристофер Руфо, таран реакционного наступления, по крайней мере, описывает это как то, чем это является: расчетливое удушение, чтобы бросить университеты в бездну «экзистенциального ужаса». Ибо именно страх заставляет нас, без необходимости прямого принуждения, заниматься самоцензурой, предвосхищая то, чего от нас ждет власть. Именно это и делает Трамп: создает атмосферу всеобщего запугивания, которую Гарвард отказывается принять. Да, это смело и похвально. Мы должны взять это на заметку здесь, в Мадриде, где под прикрытием многострадальной свободы разворачивается крестовый поход против наших университетов.

