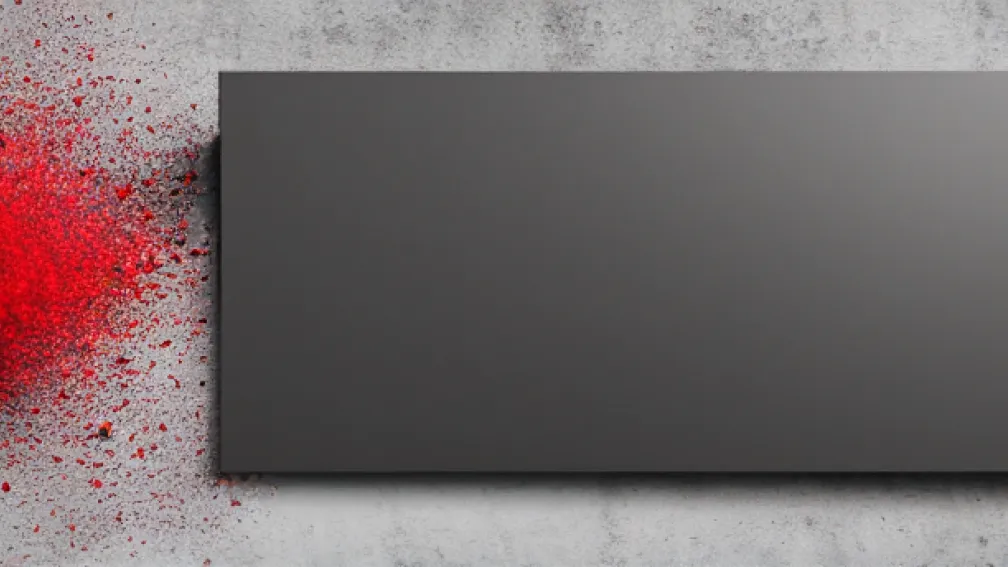
В нескольких словах
Статья Мануэля Круса поднимает проблему кризиса доверия к политикам, которые переступают через «красные линии» и нарушают обещания. Это ведет к разочарованию избирателей, ощущению обмана и усилению политической конфронтации. Автор подчеркивает, что отсутствие четких принципов и опора на эмоции (страх, ненависть) делают общество уязвимым для манипуляций. В итоге, политика превращается в борьбу за власть, а не в служение интересам граждан.
Формулировка «кризис больших эмансипационных нарративов»
Формулировка «кризис больших эмансипационных нарративов», кажущаяся абстрактной и повторяющаяся уже почти полвека, имеет очень простое и узнаваемое практическое выражение в людях. Если сегодня спросить любого человека о том, что он считает желательным для общества в целом, ему, вероятно, будет гораздо легче выразить то, что он отвергает, чем то, что он действительно считает позитивным для всех.
В этом нет ничего удивительного. Тот, кто остался без глобальных представлений об обществе, жизни и мире, вряд ли сможет аргументировать, почему (не забывайте: при отсутствии сильного рационального дискурса) ему кажутся предпочтительными те или иные цели. Однако ситуация иная с негативными убеждениями, большинство из которых коренится в чувствах или эмоциях — сегодня это, прежде всего, страх или ненависть, — которые человек переживает как подлинные неопровержимые доказательства.
Поэтому неудивительно, что программные предложения политических формирований пытаются восстановить поддержку граждан, — во многом отдалившихся от них из-за недостаточной верности своим основополагающим принципам, а также из-за незаинтересованности в каких-либо стратегических проектах, выходящих за рамки следующих выборов, — принимая на себя весь этот комплекс отказов и подчеркивая, что они делают их своими, как основные столпы своего политического предложения. Отсюда и метафора, которой их принято называть: «красные линии».
Однако многие политики не тратят много времени на то, чтобы переступить через них. Нередко, чтобы оправдать перемену, которую трудно объяснить без некоторого смущения, они используют аргумент, согласно которому, как бы они ни меняли свои мнения, они никогда не меняли своих ценностей. Сразу же, если проанализировать формулировку с минимальным вниманием, становится видна пустота аргумента. Самое важное возражение против этого носит практико-политический характер и может быть сформулировано в виде вопроса: может ли ценность действовать как «красная линия»? Разве у нас не было в прошлом достаточно возможностей убедиться в том, до какой степени худшие политические режимы или самые жестокие диктаторы апеллировали к самым благородным ценностям, как будто именно они наиболее точно определяют их природу и практику?
Очевидно, что тот факт, что мы больше ничего не знаем, кроме того, чего мы ни в коем случае не хотим, не спасает нас от разочарования. И не только это, но можно даже утверждать, что в случае, если такое разочарование имеет место, оно оказывается более глубоким и интенсивным, поскольку коренится в эмоциях (потому что то, чего мы с наибольшей ясностью знаем, что не хотим, — это то, что мы ненавидим или чего боимся, или и то, и другое одновременно). В самом деле, что происходит, когда представители граждан нарушают свои обещания, переступают все «красные линии» и поддерживают, одобряют или принимают именно то, отказ от чего был единственным, в чем были уверены их избиратели? Совершенно очевидно, что такие граждане чувствуют, что их самые глубокие эмоции насилуются именно теми, кому они доверяли. И, с высокой вероятностью, они в конечном итоге отворачиваются от политики или, что еще хуже, присоединяются к рядам тех, кто считает ее одной из наших самых больших проблем.
Что-то идет очень плохо, когда граждане усвоили, что нет никакого способа узнать, чего им ожидать, а чего нет от тех, кого они считали своими. Отказавшись от принципов, переступив все «красные линии», эти предполагаемые представители, похоже, не в состоянии предложить большего, чем послание, которое допускает крайнюю и постоянную конфронтацию, напряженную поляризацию, полностью лишенную содержания, ставшую нормой нашей общественной жизни в настоящем: мы лучшие, говорят нам, просто и исключительно потому, что мы не другие.
Формулируя вещи таким образом, стали говорить так, как будто больше нет разницы между меньшим злом и добром, как будто перед лицом постоянной угрозы со стороны «других» полностью лишены смысла требования ответственности, подотчетности или неизбежной самокритики. В таком контексте неудивительно, что в политической конфронтации нормализовалось «сам такой» — аргумент крайней бедности, который, отнюдь не оправдывая, пытается минимизировать, посредством сравнения с альтернативой, представленной как воплощение абсолютного неприятия, значимость беспорядочного и непоследовательного курса.
Но очевидно, что тот факт, что в определенный момент партия может вести себя как «партия-поводырь», выражаясь словами Ортеги-и-Гассета, не делает приемлемым, а тем более хорошим, любой ответ на нее. Быть последовательным и открытым к диалогу, если мы согласны с тем, что это желательное демократическое отношение для того, кто противостоит «поводырю», никоим образом не может быть заменено практикой «поводырства» низкой интенсивности, вводя примитивный неологизм. Определенно: без слова и без предложения политика исчезает, сводясь к утомительному зрелищу — простому театру для актеров — борьбы за достижение власти. Или за то, чтобы ее не потерять.
Автор: Мануэль Крус, профессор философии и бывший председатель Сената Испании.

