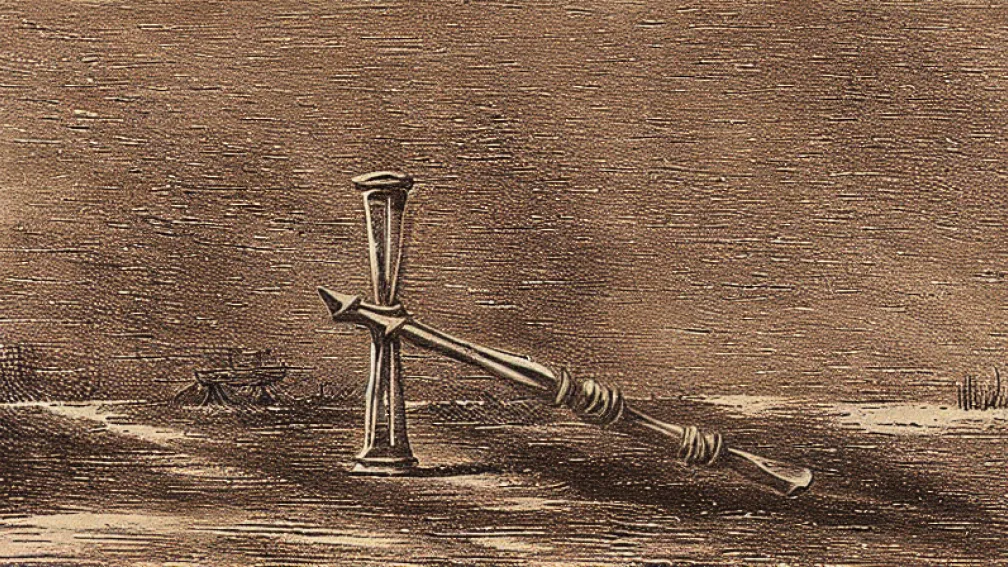
В нескольких словах
Судебное решение по делу испанского историка Риоса Карраталы, осужденного за его выводы о роли судебного секретаря Баэны Токона в репрессиях против поэта Мигеля Эрнандеса, создает опасный прецедент. Оно ограничивает свободу исследователей и общественную дискуссию о коллективной и индивидуальной ответственности в периоды диктатур, таких как франкизм, сводя сложный этический и исторический анализ к вопросу защиты чести.
Мой дед всегда рассказывал анекдот, который его очень смешил: скрипач идет по джунглям и встречает тигра. Музыкант достает инструмент и начинает играть, усмиряя зверя. Постепенно он собирает всех животных, и вот уже аудитория из змей, горилл и прочей очарованной фауны. Наконец, появляется лев. Он подходит к первому ряду и съедает скрипача. Животные возмущаются: «Черт побери, пришел глухой и испортил концерт».
Магистрат суда первой инстанции № 5 Кадиса, Ана Мария Чокарро Лопес, могла бы сыграть роль льва в этой совсем не смешной истории. Осудив историка Хуана Антонио Риоса Карраталу за частичное незаконное вмешательство в право на честь Антонио Луиса Баэны Токона, секретаря следственного суда, который вел дело Мигеля Эрнандеса в 1939 году, она одним ударом пресекает тонкую, долгую, многогранную и во многом невыразимую дискуссию об ответственности и вине (коллективной и индивидуальной) обществ, подвергшихся насилию и диктатуре. Это дискуссия о том, как работает репрессивная машина, кто ее осуществляет и что значит смотреть в другую сторону или выполнять приказы. Философы, историки, писатели, юристы в отставке и граждане всех слоев участвуют в этой по необходимости открытой агоре, ценность которой не в выводах, а в самой модуляции разговора, чья настойчивость измеряет демократическую плотность страны.
Упоминание моего деда в начале уместно. Десять лет назад я написал книгу под названием «То, что никому не важно» о нем — рядовом солдате франкистской армии на протяжении всей войны, призванном насильно, и надзирателе в лагере для военнопленных после ее окончания. В том романе я задавался вопросом о его ответственности и вине, чувствовал ли он ее. Увлекает ли нас история или мы можем ей противостоять? Мы соучастники или марионетки? Миллионы испанцев с дедами, подобными моему, могли разделять мои сомнения, и литература предлагает пространство для нюансов. За исключением вопиющих случаев могущественных людей с очевидной виной, большинство живет в полумраке, где нельзя отделить белое от черного.
Именно это утверждает сын Баэны Токона в своем безумном иске против всех средств массовой информации Испании (отклоненном почти полностью, за исключением некоторых аспектов, касающихся Риоса Карраталы): что его отец был молодым человеком, проходившим военную службу, и попал в тот суд так же, как мог бы оказаться в любой другой конторе франкистской администрации. Он считает — и судья частично с ним согласилась — что возлагать на него осуждение поэта — это преувеличение и позор. Если бы он не повел дискуссию по судебному пути, его точка зрения стала бы вызовом, который значительно обогатил бы этот спор. Приговор же, напротив, его обедняет.
Когда Риос Карратала в своей книге «Увидимся в Чикоте» и других исследованиях репрессий раннего франкизма против писателей и журналистов изучает роль таких фигур, как Баэна Токон, он ищет не судебной мести, а освещения самых темных уголков франкистского общества. Докуда простирается этическая ответственность за репрессии? Является ли пассивным чиновник, ставящий подпись? Или его некритичное исполнение долга запускает аппарат? Помимо фактических ошибок, которые может допустить любой исследователь, вопрос очень умозрителен и требует большой доли мнений. Приговор цепляется за мелочи, уже исправленные и включенные в дискуссию, чтобы ограничить свободу слова. С таким прецедентом выносить оценочные суждения и аргументы об акторах репрессий станет очень рискованно.
Начиная с Ханны Арендт и банальности зла ее Эйхмана в Иерусалиме и заканчивая лицемерием «Mitläufer», описанных Жеральдин Шварц в «Амнезийцах» (тех немцев, которые не были членами нацистской партии и не сотрудничали с ней, но пассивно извлекали выгоду из своего молчания), эти вопросы мучают и занимают европейских интеллектуалов с тех пор, как в пятидесятые годы молодой человек впервые спросил за ужином: «Папа, а где ты был, когда это случилось?». Многие ответили, как персонаж Билли Уайлдера в «Один, два, три»: ничего не знали, работали в метро. С тех пор одни занимались обличением, а другие — отрицанием. В испанском случае вопрос стоит острее: убил ли или посадил твой отец моего? И уточняя, чтобы сосредоточиться на этом деле: подписал ли приговор или только его оформил?
Как только исследования выходят за рамки академических книг (700 экземпляров в двух изданиях было продано «Увидимся в Чикоте»: секрет Баэны Токона был надежно спрятан, пока его сын не решил вынести его на суд), естественно, что они вызывают скорбь и сожаление, ведь речь идет о все еще живой истории. Сына Баэны Токона, вероятно, больше задели твиты и комментарии к новостям, чем любые литературные вольности Риоса Карраталы, но именно на историка обрушился «глухой лев». Он не съел его, как музыканта из анекдота, но нанес ощутимый укус, который отпугнет остальных скрипачей от прогулок по этим джунглям.

