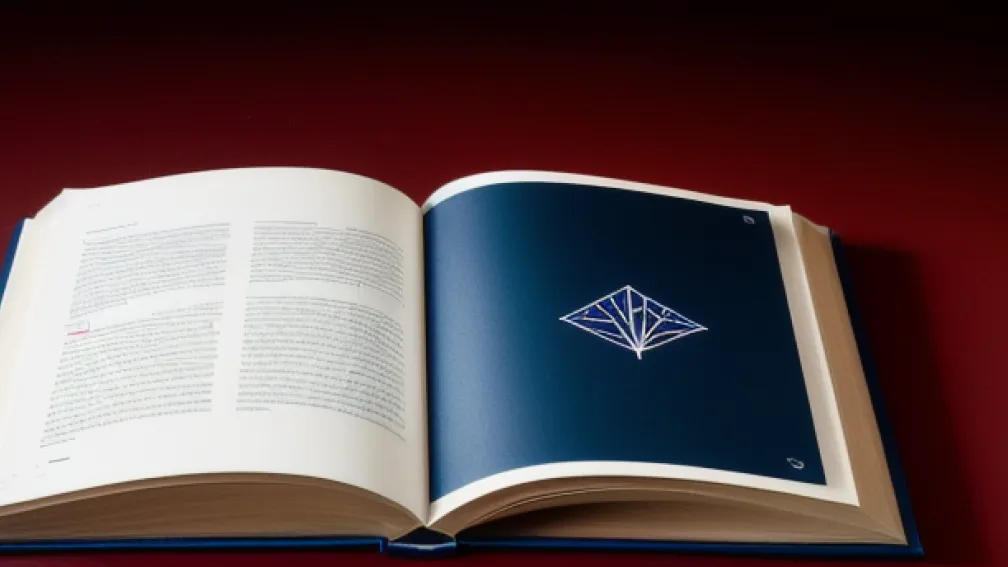
В нескольких словах
Статья Антона Руденко исследует феномен невежества в современном обществе, подчеркивая, что каждый человек в чем-то невежественен. Опасность представляет не само невежество, а активное сопротивление новым знаниям и критике. Автор отмечает, что в эпоху переизбытка информации растет недоверие к экспертам, а популизм и отрицание становятся все более распространенными. В заключение автор призывает к защите ценности знаний и критического мышления, чтобы противостоять «фабрике невежества» и сохранить здравый смысл.
Экономическая наука учит, что большинство доступных благ ограничены и редки.
Богатства, власть или слава доступны лишь меньшинству. Однако есть одно необычное исключение, дар, которым каждый житель планеты обладает в изобилии: «здравый смысл». Все утверждают, что он у них есть, и готовы провозглашать его направо и налево. Некоторые даже предсказывают революцию здравого смысла, которая на самом деле будет вечным возвращением того же самого: думать, что наши идеи верны просто потому, что они наши.
Геродот, отец истории, обнаружил в своих путешествиях, что каждая культура склонна путать привычное с естественным.
«Если бы всем людям, — писал он, — дали выбирать между всеми обычаями, каждый выбрал бы свои собственные; настолько каждый убежден, что они совершенны». Например, греки считали, что самое разумное — кремировать мертвых. Геродот рассказывает, что однажды персидский царь Дарий вызвал их ко двору и спросил, за какие деньги они согласятся съесть трупы своих родителей. Они в негодовании ответили, что ни за какие. Затем Дарий пригласил индийцев-калатов, чья почтенная традиция состояла в том, чтобы пожирать своих родителей, и хотел узнать, за какую сумму они были бы готовы сжечь останки своих родственников; они разразились криками, умоляя его не богохульствовать. Обычай — царь мира, заключает историк. Возможно, действительно распространенным является пренебрежение другими способами мышления и жизни, убежденными в том, что наш — лучший и наиболее правильный.
Мы часто впадаем в круговое рассуждение: мы определяем как здравый смысл набор утверждений, с которыми согласятся все здравомыслящие люди, а здравомыслящие люди — это те, кто обладает нашим здравым смыслом.
Недавно Марк Уайтинг, социолог из Университета Пенсильвании, набрал более 2000 добровольцев для эксперимента. Он попросил их оценить философские, практические и моральные утверждения, такие как «каждый имеет право на образование». Затем они проанализировали ответы в поисках закономерностей общих убеждений, но обнаружили большое разнообразие способов понимания здравомыслия. Случайно эти ясные и убедительные идеи, кажущиеся очевидными и естественными, как правило, совпадают с тем, что думает каждый: если мы согласны, мы называем это здравым смыслом; если нет, мы называем это идеологией. Они кажутся нам доказательством нашего здравого смысла, краеугольным камнем твердых убеждений в эпоху подозрений. Как правило, это истины, которые не рассуждают, а ограждают.
В своем эссе «Невежество» Питер Берк утверждает, что все мы невежественны, просто в разных областях.
Предвзятости человеческого знания лежат в основе нашей упрямой склонности к самообману. Тем не менее, ошибка ценна: она может заставить нас осознать наши пробелы и открыть окна в новое и неожиданное. Точно так же, как певцы должны определять, где они фальшивят, полезно понимать, что мы часто ошибаемся. Знание того, чего мы не знаем, — это прелюдия к любому прогрессу и скальпель, который рассекает догматизм.
Обвинять человека, культуру или исторический период в невежестве — это признак высокомерия, поскольку всегда есть слишком много, что нужно знать.
Однако, как отмечает Берк, по-настоящему опасно активное невежество, то есть сопротивление определенным идеям и научным открытиям. Не хотеть знать, страстно. Закрывать ментальные окна, обездвиживать себя и возводить компактные защиты от тревожных знаний. Защищать скрытую рану наших неуверенностей. Все мы считаем свои мнения продолжением нашего собственного «я», еще одной конечностью — особенно, если они экстремальны. Когда кто-то нападает на них или не подчиняется им, мы чувствуем, что повредил что-то интимное: сердце убеждений.
В наше неспокойное и запутанное время эта травма вызвала поток враждебности к экспертам.
Нам не нравится, когда какой-нибудь всезнайка любезно обнаруживает размер нашего невежества. Головокружительный шквал информации отдает предпочтение решительным утверждениям, без медлительности и нюансов специализированных знаний. В отличие от того, кто беседует, чтобы убедить, алгоритм вознаграждает того, кто с убеждением освистывает. Мы живем и общаемся все более и более взволнованно; сообщения без оскорблений кажутся безвкусными. Крикуны захватывают мегафоны и сеют подозрения по отношению к мудрецам и ученым. Как пишет Даниэль Иннерарити, «интеллектуалов обвиняют в насаждении доктрин, выдумках и отсутствии здравого смысла». В этом недоверии гнездится искушение дискредитировать учителей, вместо того чтобы укреплять профессию, которая всем нам кажется решающей, требовательной и дальновидной. Также отказ от неудобных научных свидетельств, как если бы они лишь прикрывали махинации власти. Или привлекательность отрицания, маскирующего свои выходки под дерзость, смелость и сопротивление участию в стаде. Шалость забавна; аргумент утомителен и многословен. Дисквалификация эксперта как простого приспешника грязных интересов дает нам роскошь льстить нашим предубеждениям. Если я так вижу, вершина здравого смысла, как это не может быть правдой?
Хотя мы представляем классиков как отряд бородатых и восхищенных мудрецов, размахивающих запоминающимися фразами, высеченными в мраморе, они также страдали от вспышек ненависти.
В 94 году Домициан изгнал философов из Италии и запретил населению изучать и практиковать философию, источник критики и сопротивления власти. Эпиктет, бывший раб, ставший мастером стоицизма в Риме, был одним из преследуемых. Он разозлил императора, заявив, что мыслители должны «смотреть тиранам прямо в лицо», и был изгнан в Грецию. Историки, такие как Тацит и Светоний, описывают Домициана как деспота с безжалостными манерами, который погрузил Сенат в атмосферу ужаса.
В демократии мы делегируем право принятия решений нашим правителям по бесчисленному множеству вопросов, в которых они не разбираются, надеясь, что они добросовестно примут экспертные советы и предостерегающие возражения.
Но, увы, часто эти предупреждения или разногласия раздражают. Другой древний философ, Сократ, шутя говорил, что он по профессии овод. В его глазах демократические Афины были похожи на чистокровного коня, но ленивого и развалившегося. Боги посылали таких мыслителей, как он, чтобы яростно жалить, упрекать и пробуждать город, если он уснет на лаврах. Вопросы, как и насекомые, легко раздавить, но социальная цена за замалчивание раздражающих людей в конечном итоге оказывается слишком высокой. Пророчество сбылось: осуждение Сократа затмило афинское наследие.
Когда сильные мира сего чувствуют на своей шкуре жало овода, вариант посеять недоверие к знаниям не является невинным; он скрывает под собой целый айсберг намерений и стратегий.
По словам Берка, наши лидеры в сферах больших интересов имеют определенную склонность к разрушению контроля, сокрытию ошибок, отрицанию угрожающих фактов и дискредитации своих критиков, чтобы увеличить свою безнаказанность. Эти методы известны как «фабрикация невежества» и хорошо задокументированы как в политике, так и в бизнесе: также существует бизнес отрицания. И в экономике невежества гражданство становится дефицитным товаром. Именно там действительно терпят крушение здравый смысл и чувство общности.

